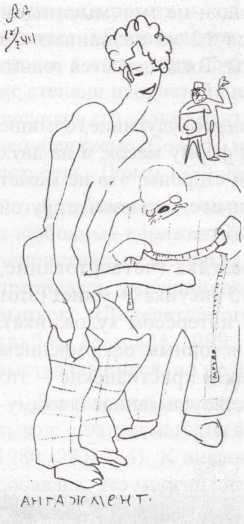
Кроме того, все его рисунки — это не произведения солидарного и заинтересованного эротомана, а ироничные и отстраненные на броски остроумца и насмешника. Он посмеивается над Верленом и Рембо или «четой Геккеренов» так же, как он издевается над архангелом Гавриилом, совращающим солдата, или христианскими миссионерами, соблазняющими детишек. Иными словами, создается впечатление, что его неудержимо тянет к этим темам (рисунков на сюжеты сексуальных контактов и извращений чрезвычайно много и они очень разнообразны, позы и ракурсы хитроумно изобретены — вплоть до вида на гомосексуалов сквозь кровать и снизу — рис. 51 и 52), но в то же время художник то язвительно, то снисходительно иронизирует над своими объектами и над своим интересом, подчеркивая, что это не всерьез, что это не его сфера, что он выше всего этого и лишь озорничает. Такую позицию по отношению к вещам притягательным обычно занимает человек, который не в силах к ним подключиться и вынужден постоянно смотреть воздерживаться от нормальной половой активности. Тем сильнее и более буйно разыгрывалось его воображение.
Как в истории с Роммом в костюме королевы Елизаветы, Эйзенштейн смотрел на обыденные кинематографические будни, но видел нечто сугубо сексуальное — и часто прикрывался иронией. Ромм же рассказывает и о споре с Эйзенштейном, находившим, что в картине «Аршин мал алан» есть единый стиль. Ромм озадаченно: «Ну, если серьезно, то простите меня, какой же единый стиль вы находите в этой картине?» Тот отвечал:
«А я вам сейчас определю… Это стиль, с вашего позволения, парижской порнографической открытки в бакинском издании. Вот так. Правда, в бакинском издании. Но ведь это национальное искусство… Единственный недостаток, который я нахожу в этой картине, это то, что в ней наблюдается излишество в костюмах. Представьте себе на секунду, что мы снимем со всех героев и с героини в основном — с основных действующих лиц — штаны и вообще нижнюю часть одежды, вот, что получится?»
И сразу берет стопку бумаги «и начинает молниеносно, на память рисовать кадр за кадром «Аршин мал алан», но без штанов. Причем рисует такую дикую похабель». Героя в смокинге и барашковой шапке, но без штанов — голые волосатые ноги и т. д. «Мы сидим, мы умираем со смеху буквально» (Ромм 1989: 88–89). Но для Эйзенштейна это было нечто большее чем смех. На основании множества рисунков можно сказать: он так видел.
Рисунки были компенсацией за недоступные ему удовольствия жизни. Был ли он гомосексуалом, или гетеросексуалом, или бисексуалом? В воображении он был всем. В реальности — облаком в штанах.
Эту особенность Эйзенштейна уловил Леонид Утесов, зло подметивший как-то: «Эйзенштейн — половой мистик». Обиженный Эйзенштейн тотчас и не менее зло спарировал: «Лучше быть половым мистиком, чем мистичковым половым» (ЭйМ II: 68). Гениально спарировал, просто убил Утесова с высоты своего прижизненного пьедестала в мировом кино. Но у Леонида Осиповича, этого талантливого, но безголосого ресторанного певца, забредшего в кино с «Веселыми ребятами», все-таки были жена, дочь, настоящая семейная жизнь, и видимо, настоящие любовные утехи. А у Эйзенштейна в этом плане ничего настоящего — недоступные любовницы, фиктивные по сути браки, платонические жены и лишь воспоминания о будущем. Единственное утешение — недосягаемое мастерство. Когда его попросили помочь Александрову — вывезти «Веселых ребят», он буркнул: «Я не ассенизатор. Говно не вывожу». Что ж, «сподобил Господь Бог остроткою…» — а что он еще мог им ответить?
10. Утаенная любовь
Но нет, он нашел, что им всем ответить — хотя бы посмертно, в мемуарах. Впрочем, и в одном неотправленном письме. Он чуть приоткрыл завесу над своей великой потаенной и утаенной любовью, которая сможет объяснить его сдержанность со всеми остальными любовницами и, быть может, любовниками, его бессилие с обеими женами. До них ли было, когда перед ним неотступно стоял ЕЕ образ!
Он старательно подыскивал исторические и жизненные параллели своему потрясающему переживанию. Будучи за границей, он познакомился с Чарли Чаплиным и его ситуацией. У Чарли Чаплина было много жен и уйма детей, свадьбы и бракоразводные процессы. Но влюблен он по-настоящему был, с точки зрения Эйзенштейна, только в одну Мэрион Дэвис — любовницу газетного магната Херста, и Херст всячески препятствовал ее любви с Чаплиным и преследовал его. Чаплину пришлось отступить. Это была великая трагедия жизни Чаплина. «Но меня гнетет моя меланхолия, — пишет Эйзенштейн. — У каждого своя Мэрион Дэвис» (ЭйМ II: 238).
Другой аналогичный случай открылся ему в работе Ю. Н. Тынянова «Безыменная любовь» (1939). Составляя свой список любовных увлечений («донжуанский список»), Пушкин скрыл одно имя под инициалом «NN». В других случаях он скрывал любимое имя за буквой «К». Тынянов попытался разгадать эту загадку. Известно, что юный Пушкин был влюблен в почтенную матрону, жену историка Карамзина. Тот, выяснив это обстоятельство, прочел Пушкину назидательную нотацию. Устыженный поэт больше не пытался пробиться к сердцу Карамзиной, но пронес эту любовь через всю жизнь и на смертном одре призвал Карамзину, чтобы именно ее повидать перед смертью. Тынянов считал, что «NN» и «К» нужно расшифровывать как «Карамзина».
Есть ряд других разгадок «утаенной любви» Пушкина — М. Раевская (М. Волконская), М. Голицына и др. (Утаенная любовь 1997). По недавнему предположению Л. М. Аринштейна, потаенная любовь Пушкина имела гораздо более недоступный объект — он был с юных лет тайно влюблен в супругу императора Александра I Елизавету Алексеевну и воспевал ее в своих стихах. Но эта трактовка была еще неизвестна Эйзенштейну — она бы ему еще больше пригодилась. Потому что возводила объект любви на еще более высокий пьедестал.
Письмо Тынянову, написанное в 1943 г. в эвакуации в Алма-Ате, где шли съемки «Ивана Грозного», осталось неотправленным потому, что пришло известие о смерти Тынянова. Перед тем работу Тынянова кинорежиссеру посоветовала прочесть его давняя приятельница Эсфирь Ильинична Шуб, с которой он флиртовал в 20-х годах. Посоветовала, как раз когда он томился в поисках сюжета для биографического фильма о Пушкине. «Неужели весной 40-го года она видела себя Карамзиной, а меня… Пушкиным? — размышляет он, сидя над мемуарами в 1946 г. — «Однако почему же я так мгновенно, пламенно, безоговорочно и решительно ухватился именно за эту концепцию? Как будто передо мной недавно, совсем недавно прошла картина именно такой драмы. Такой любви. Любви затаенной и запретной. И любви скорее запретной, нежели затаенной. Но любви столь же сильной. Любви вдохновенной» (ЭйМ II: 214).
В письме Тынянову режиссер писал и о Пушкине, и о Чаплине. Хорошо его знавший Шкловский замечает: «Что написал Эйзенштейн в письме? Он писал о своей утаенной, неудавшейся любви» (Шкловский 1969: 290).
Еще больше Эйзенштейн писал о ней в своих мемуарах. Там в четырех главах («Ключи счастья», «Три письма о цвете», «Любовь поэта», «Мэрион») идет речь о любовных трагедиях Пушкина и Чаплина, а затем в двух главах («Принцесса долларов» и «Катеринки») излагается очень густо завуалирован ная история утаенной любви самого режиссера. Объект его любви назван «Принцессой долларов» — не потому, что она рассыпала доллары, а по названию оперетты, которую Эйзенштейн видел в детстве. Он вспоминает вальс из этой оперетты с немецким текстом, который в переводе звучит без рифм:
«Это — принцессы долларов,
Девицы, обсыпанные золотом,
С бесчисленными стражниками вокруг…»
Он вспоминает эту оперетту «по случаю встречи с живой принцессой долларов очень-очень много лет спустя. И особенно потому, что эта встреча совершенно неожиданно раскрыла мне глаза на корни многолетней травмы «гадкого утенка», о которой я говорил раньше. И чуть-чуть не помогла преодолению этой травмы…» Под травмой он имеет в виду свой неудавшийся «эшелонный» роман со Ждан-Пушкиной.