Мы поморщились — подумаешь, страсти какие, любовницу завел. Мы-то уже представляли, как на этих зеленых просторах случится у нас схватка между нерадивостью, бесхозяйственностью и принципиальностью, совестливостью, между рабочей гордостью и холодным карьеризмом, и не собирались отступать от взлелеянных представлений. Впоследствии нашего героя, молодого человека с детски незрелой душой, мы снабдили профессией дозиметриста и заставили отчаянно бороться с начальником-очковтирателем: начальник принуждал нашего героя принять плохо, наспех сваренные швы, дабы не сорвался месячный план, а вместе с ним и премиальные, и знамя передового участка.
Сочиняя повесть, мы уже не сидели плечом к плечу за одним столом. Видимо, настигало уже нас сознание несовместимости тишайшего, только в одиночестве смелеющего бега пера и какого-то декламационно-неестественного отбора слов, вроде бы замерзавших, твердевших от нашей двугласности. Мы подробно обговаривали, продумывали несколько глав и расходились по домам, выписывались и начинали стыковать главы, сваривать на манер нефтепроводных труб. Жаль, возле нас не было какого-нибудь дозиметриста, который мог бы «просветить» наших героев и, поскорбев над их неуклюжими и наивными попытками казаться исключительными, обратился бы к ним примерно с такой речью: «…вы были людьми, и ваша внешняя и внутренняя жизнь так же исполнена поэзии, так же любопытна и поучительна для нас, как мы и наша жизнь в свою очередь будем любопытны и поучительны для потомков. Вы были такими же действующими лицами всемирного великого зрелища, с незапамятных времен представляемого человечеством, так же добросовестно разыгрывали свои роли, как и все люди, и так же стоите воспоминания».
Публикуя повесть в 1965 году в альманахе «Ангара», мы назвали ее «Сколько лет тебе, парень?» — все-таки пробилась в ней, видимо, благодаря раздельной работе, достаточно серьезная мысль о позднем взрослении нынешних молодых людей, о их неумении и нежелании «строго спрашивать с себя», отвечать за свою жизнь перед обществом… Конечно, альманашный заголовок с излишней газетной бойкостью и прямотой ставит вопрос, но и для отдельного издания мы придумали не лучше — «Мы придем в город утром» — враз не отстать было от дурной многозначительности.
Еще через год, опять летом, мы затеяли длинное путешествие: от истоков до устья Лены, и еще не знали, пересаживаясь с буксиров на самоходки, с теплоходов на лихтера, что тихо плывем к устью нашего соавторства, к закату его и погребению. Попробовали написать несколько очерков: «Луна стоит на капитанской вахте», «Влюбитесь в зеленую Лену» — и поняли, что по горло сыты этой патокой. А тут еще в каюте с нами жил стажер-рулевой, ремесленник из Усть-Кута, рыжий, тихий мальчишка. Он спал на верхнем рундуке и, свесив голову, подолгу наблюдал за нашими стараниями. Однажды вздохнул: «Ох, ты! Сколько слов составить надо и чтоб все складно было». Мы смущенно засмеялись и при нем больше не писали. Почему-то его «складно» мы восприняли как «вранье», «небылица», как нечто очень отрезвляющее.
Потом, с некоторыми смешными теперь, трудными и нелепыми разговорами и сценами, мы решили с Юрой: пора уж каждому приниматься за свое.
* * *
С Распутиным мы написали повесть «Нечаянные хлопоты». Напечатал ее журнал «Наш современник» в 1969 года. А начинали мы ее, вернее, додумались до совместного сочинительства летом 1967-го.
В конце июня — уже листва налилась темным, выбродившим соком — встретились мы возле Ангары и, как любили в те времена, закружили по низеньким, неторопливо стекавшим к реке улочкам, по их летнему, празднично-зеленому переплетению. Вроде и виделись почти каждый день и почти все слова перевели на «вольный пыл бесед», а тем не менее затягивало это кружение, это исполненное юношеской, неостывающей доверительностью единение. Видимо, бывает в товариществе пора, не терпящая будничного течения чувства и как бы требующая ежедневных доказательств, что оно свежо и полно сил и продолжает возносить нас, кружить, неизъяснимо волновать.
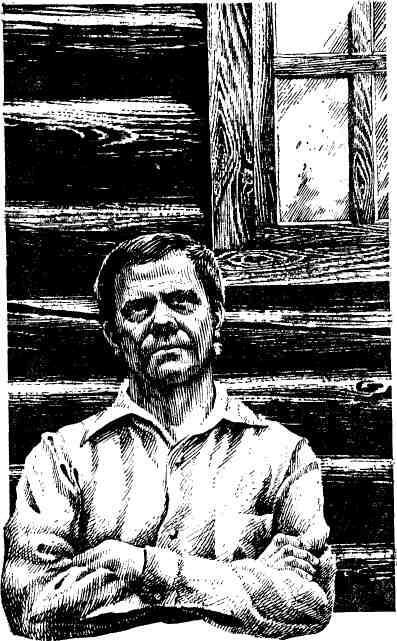
Мы тогда неожиданно загорелись желанием куда-нибудь поехать, коротко ли, долго попутешествовать — «хорошо бы по воде, на пароходе или на барже», — говорили мы, и веселым нетерпением, казалось, взблескивали даже волны в Ангаре. Все-таки, наверно, не речная праздность поманила нас (хотя и она прекрасна), а видение неких дорожных приключений, неких дорожных забот, еще более соединивших бы нас. Должно быть, все собирающиеся путешествовать: кто на плоту по горной реке, кто пешком по таежным тропам — одержимы предстоящей дорогой не только из желания развлечься и провести отпуск на воле, а прежде всего из необходимости возродить, обновить, что ли, товарищество, несколько потускневшее в суете, увидеть подлинный его лик, почувствовать подлинную его ценность — крепость плеча идущего рядом.
— Можно ведь и по Ангаре поехать, — сказал тогда Распутин. — И капитан знакомый. — Он каждое лето плавал в свою Аталанку и знал на «Фридрихе Энгельсе» всю команду. — Плохо, что ли, когда капитан знакомый?
Конечно, и по Ангаре неплохо, лишь бы нашелся покровитель путешествия, чьим иждивением бы, как встарь говаривали, снарядиться в дорогу. Отправились в обком комсомола к первому секретарю Геннадию Куцеву. Так, мол, и так, хотим до Усть-Илима по Ангаре добраться. Может, книгу очерков привезем.
Куцев, с его редким умением сразу же превращать слово в дело, сказал:
— Ясно. Дадим вам социальный заказ. На книгу очерков о молодежи Усть-Илима. Завтра приходите, торжественно оформим — и с богом!
Дня через три мы стояли на палубе «Фридриха Энгельса». Гремела отвальная музыка, прозрачно и ярко зеленела вода у причала — ходу до Братска было двое суток, а все же отзывалось сердце и на недальнюю дорогу.
В берегах Ангара продержалась недолго, растеклась вскоре Братским морем, меж черных верхушек бывших лиственничных боров — смотреть стало не на что, и мы, так сказать, спустились в корабельный трюм… Знакомый капитан почему-то этим рейсом не шел, команда тоже была другая — мы быстро сошлись с пассажирами, с некоторой грустью прощаясь с ними на маленьких пристанях, где причальные мостки врезались в пустынные песчаные откосы либо в береговую тайгу.
Аталанку проплывали утром, в густом холодном тумане — он отрубил конец трапа, и казалось, люди сходят не на берег, а в белое, бездонное нечто. Распутин тем не менее разглядел кого-то или по голосу узнал, поздоровался, наказал матери передать, что заедет на обратном пути. Утренний этот, вялый, как бы отсыревший разговор перебил веселый, свежий голос:
— С пивом-то как у вас, Валентин? Может, запасы есть?..
В Братск приплыли утром и, сойдя на берег, обнаружили, насколько верно присловье: весело плыть — дорого платить, — командировочные наши шуршали по палубам белотрубного теплохода. Сели в автобус, поехали за тридцать верст на правый берег, к Борису Гайнулину, пережидать безденежье.
Борис был во дворе, увидев нас, покатил к воротам, резко и сильно перехватывая колеса своего кресла.
— Ну вот, только вас и не хватало. Привет, ребята! — протянул чуть влажную ладонь с длинными, тонкими, сильными пальцами. — В Усть-Илим, значит, собрались? Хорошо. Встретим и заодно проводим. — Он засмеялся, засветился белыми, ядрено крепкими зубами, серо-голубыми глазами в легком, золотистом крапе. Вскинулись густые и широкие брови, скулы, чуть заплывшие уже отечно, нездорово, взбухли весело и твердо. Могуч он был — что плечи, что грудь, что постанов шеи — только в несоответствии с этой могучестью острились худые, неподвижные коленки под широкими отутюженными штанинами.
— А теперь давайте знакомьтесь, — Борис повернул от ворот, мы пошли за ним, к гаражу. — Вот этот и этот — с Усть-Илима сегодня. Работали когда-то вместе. Зубы не болят? А то вот, пожалуйста, зубной техник. Старый товарищ, живет неподалеку. А теперь подтянитесь, дышите в сторону — перед вами инспектор ГАИ. Так. Вроде все. Со мной вы знакомы… Хотя нет… Перед вами владелец новой «Волги» — сегодня пригнали. Ребята, распахните-ка дверки… — Мы поняли, что компания в сборе и поводов для застолья более чем достаточно.