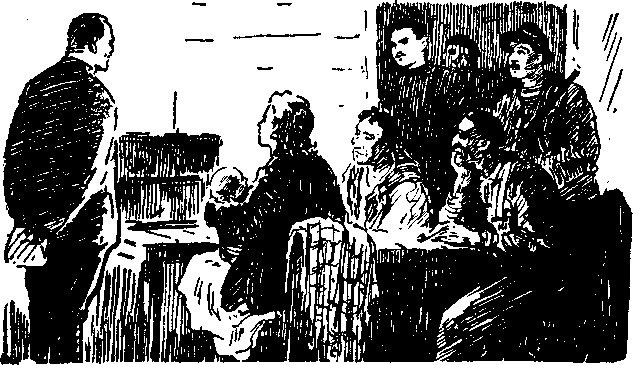Мехти сидел перед холмиком, устланным хвоей и цветами, а вокруг высились молчаливые каменные громады…
Не было ни боли, ни слез, ни крика — пусто в душе, пусто вокруг…
Он заметил, что напротив него, у холмика, стоят заплаканные Сильвио и Вера.
— Нет Васи, — проговорил Мехти опять, обращаясь сам к себе, и впервые за этот бесконечный день почувствовал, что ему трудно дышать. Невыносимо закололо в груди…
И вместе с болью пришла из глубины сознания почти осязаемая мысль: в его жилах, заставляя двигаться, биться, изболевшееся сердце, течет Васина кровь.
Горячая Васина кровь!
И Мехти увидел перед собой не Веру и Сильвио, а Васю с Анжеликой; а потом одного Васю в форме немецкого солдата, Малыша с дергающейся щекой; а потом Васю, помогающего ему идти по лесу: Мехти еще слаб после ранения, а Вася — белобрысый, веснушчатый — восторженно говорит с ним о том, что близка весна.
Теперь нет Васи, а есть вот этот холмик.
Мехти беззвучно рыдал у маленького холмика, устланного хвоей.
Он не слышал, как откуда-то издалека донесся сюда протяжный стон. Вера и Сильвио забеспокоились, но не сдвинулись с места — нельзя было оставить Мехти одного. Стон повторился; потом все стихло.
Это стонала чешка Лидия Планичка — во время погребения Васи она почувствовала себя плохо и поняла, что наступает та минута, когда она сможет назваться матерью. Планичка отыскала в толпе медсестру и, опираясь на ружье, как на палку, добралась до укромного уголка меж скалами.
И она подарила миру сына, а медсестра приняла его. Стоны матери доносились до могилы Васи.
Вера присела ближе к притихшему, неподвижному Мехти.
И Мехти вспомнил, как тащил ее Вася за руку из «комбината», а она была перепугана, вся тряслась… Не так давно это было, а, кажется, прошли годы…
Тишина на земле. Тишина должна нарушаться только песней, сказал как-то Вася. И сейчас было тихо-тихо… Но нет, это не тишина, о которой он мечтал!..
Мехти поднялся с земли, постоял еще минуту у холмика, потом медленно побрел по тропе вниз, к лагерю.
На поляне, у одной из палаток, толпились партизаны.
Доктор, шумливый, как всегда, кричал, требовал, чтобы Планичку немедленно уложили, — она только что пришла сюда, по-прежнему опираясь на ружье, — изможденная, но вся какая-то светящаяся.
Партизаны из рук в руки передавали ребенка, завернутого в чистое полотенце. Они пытливо всматривались в личико только что родившегося человека.
Дали его посмотреть и Мехти. Он долго держал на руках малыша, появившегося на свет в тот день, когда умер его побратим Вася, в тот час, когда Васю похоронили среди утесов, на чужбине.
Думали, какое дать ему имя. Одни предлагали назвать малыша Джузеппе, в честь его погибшего отца, другие — Васей.
— Васей! — тихо сказала Планичка.
И может, и посейчас живет где-то мальчик, у которого отец итальянец, мать чешка, а имя русское…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Раны Мехти затягивались быстро.
Зажило ухо: лишь маленькая повязка на руке говорила о том, что руку задела шальная пуля. И только никак не закрывалась другая, более глубокая рана: Мехти продолжал тосковать по другу; ему казалось, что Вася унес с собой частицу его собственного сердца.
Он пробовал уйти в работу над картиной.
Мехти наносил энергичные мазки, он работал быстро, почти исступленно. А потом долго, ни о чем не думая, смотрел на холст. Работать было трудно.
Трудно работать было еще и потому, что Мехти все больше значения вкладывал в свой замысел.
То, что он изображал на картине, было для него уже не только светлой, дорогой мечтой. Он, в полном смысле этого слова, «выстрадал» свое творение.
Боевые друзья Мехти уходили на задания, а его не брали с собой. Мехти не обижался. Он ждал своего часа.
Штаб бригады размещался теперь в маленькой высокогорной деревушке Граник, и Мехти работал в крохотном садике перед глиняным домиком с плоской крышей. В садике росло всего несколько низкорослых, чахлых деревьев.
По крыше домика ходил часовой.
Возле Мехти часами просиживал Анри Дюэз — он кашлял еще сильней, чем прежде (весна — плохое время для туберкулезников), но и слышать не хотел о том, чтоб оставить бригаду.
Пули его не брали, и Дюэз был уверен, что увидит такой вот день, какой изображал на своей картине Мехти.
У Дюэза был фотоаппарат. Он незаметно заснял Мехти за работой и подарил ему фотографию. Подарил он карточку и высокой девушке с родимым пятном над верхней губой: она жила в этом селе и часто заходила в садик, чтобы молча, украдкой взглянуть на прославленного партизана с мягкими темными глазами.
На фотографии Мехти сидел, чуть откинувшись назад, с кистью в руке, и смотрел на холст; к бедру его плотно прилегала кобура с любимым пистолетом; по крыше ходил часовой. Вооруженный партизан, занимающийся на досуге живописью, — это само по себе могло бы служить темой для волнующей картины.
Дюэзу, когда тот заговаривал с ним, Мехти отвечал односложно, но ему нравился смуглый корсиканец с его страстной, всепоглощающей верой в праведность «большой вендетты».
…В домике распахнулось окно.
— Мехти! Все, кто там есть, сюда! — взволнованно крикнул из окна Сергей Николаевич.
Таким взволнованным его видели редко. Партизаны, находившиеся в садике, в тревоге побежали к дому. Мехти ворвался в комнату и застыл на пороге.
В побеленной горнице была установлена мощная рация, недавно отбитая у немцев. Обслуживала рацию Лидия Планичка; и не только потому, что у нее оказались кое-какие познания в этой области; просто она теперь могла выполнять лишь «спокойные» обязанности при штабе.
Сейчас она была у рации с ребенком на руках. Вокруг сидели и стояли несколько командиров отрядов, Ферреро.
Сергей Николаевич приложил палец к губам.
Издалека тихо, но очень ясно слышались позывные Москвы.
У Мехти дрогнуло сердце; он осторожно прислонился к косяку двери.
Спокойный, сильный голос диктора сказал: «Приказ Верховного Главнокомандующего…»
В приказе говорилось о переходе советскими войсками государственной границы, о вступлении их с боями на территорию Румынии и Чехословакии.
В ознаменование одержанной победы Главнокомандующий приказывал произвести в Москве артиллерийский салют из двухсот сорока орудий…
«Верховный Главнокомандующий Сталин. Москва. Кремль», — закончил диктор.
Что после этого стало твориться в горнице! Ферреро целовал Сергея Николаевича, Дюэз плясал, Мехти обнял кого-то из партизан. Планичка протянула вперед ребенка, словно для того, чтобы и он услышал далекий, спокойный голос.
…В Москве гремел салют, и его зарницы освещали чехословацкие и венгерские города, доки Марселя, лондонский Ист-Энд, туринские заводы, плоскогорья на Корсике и заброшенное горное селение Граник.
Москва возвещала миру о приближении победы; и все слышали ее голос.
Потом Мехти лежал в садике, в гамаке, сделанном из шинели. На табуретке рядом с ним сидел, строгая палочку, Сергей Николаевич.
— Теперь скоро, совсем уже скоро, правда, Сергей Николаевич? — еле слышно спросил Мехти.
— Теперь уж скоро, — не глядя на него, сказал полковник. Он отбросил палочку, поднял голову: — Ты знаешь, Мехти, у меня все время перед глазами один уголок Москвы: Охотный ряд, Александровский сад, Манеж… На углу толпа любуется салютом. В толпе Таня и Петька… Петр-то теперь, наверное, уже выше матери!
— А мне все время кажется, Сергей Николаевич, что стоит выйти из этой толпы, пройти Красную площадь, и за ней — ну, в двух шагах от Василия Блаженного, — начинаются уже улицы Баку…
Полковника вызвал к себе командир бригады, потом к нему позвали и Мехти.
Штабом были получены два очень важных сообщения. Первое обрадовало всех, второе заставило задуматься.
— Ты был прав, — сказал полковник, когда пришел Мехти. — Местонахождение Карранти уточнено.