В период с 1820 по 1850 г. на литовском языке писали и издавались около двадцати человек. Биографии трех наиболее известных из них показывают, как нелегко им приходилось. К примеру, Дионизас Пошка (1757–1830), происходивший из семьи мелких дворян Жемайтии, пробовал себя в разных занятиях, но, в конце концов, посвятил жизнь работе судебного чиновника и нотариуса. Он не окончил университет, но продолжал переписываться с профессорами Виленского университета (до его закрытия) на темы, связанные с лингвистикой, поэзией, археологией и другими гуманитарными науками. Симонас Даукантас, родившийся в крестьянской семье в Жемайтии, получил степень магистра в Вильнюсе в 1825 г. и на протяжении следующих пятнадцати лет работал переводчиком у генерал-губернатора Риги, а также на сходных должностях в Санкт-Петербурге. Его карьера писателя характеризовалась самоограничением: он категорически отказывался писать на польском языке, но, несмотря на свое решение, стал первым литовцем, опубликовавшим написанную на литовском языке историю Литвы (1822) и историю его родины, Жемайтии (1838). Также в сферу интересов Даукантаса входило коллекционирование литовских фольклорных сказок и песен. Мотеюс Валанчюс (1801–1875) более эффективно способствовал адаптации польской культуры в Литве. Он переделал на польский лад свою фамилию, став Волончевским, принял сан католического священника, впоследствии стал ректором нескольких семинарий и в 1850 г. был рукоположен в сан епископа Жемайтии. Он писал на многих языках; его труды на литовском отличались динамичным стилем, легким для восприятия читателей. На протяжении всей жизни Валанчюс писал книги и рассказы на литовском, затрагивая множество различных тем, включая историю его епархии; также его перу принадлежали религиозные труды, посвященные Иисусу и святым; он акцентировал внимание на жизни Фомы Кемпийского. Также Валанчюс создавал художественные произведения для крестьян и книги для детей; его творчество характеризовалось реалистичным изображением деревенской жизни в Литве. Он полностью отказался от политической темы, что было успешной стратегией выживания для католического иерарха в годы правления Николая I. Тем не менее Валанчюс должен был понимать, что его многочисленные литературные опыты на литовском языке имеют культурно-политическое значение, учитывая и доминирование польскоговорящих клириков в литовской католической церкви, и усилия царского правительства минимизировать опасность, исходящую от сохранения самобытной культуры на бывших территориях Речи Посполитой.
Сложившийся феномен одновременного культурного покровительства и культурного заимствования, неразделимых, как две стороны одной медали, нельзя было отменить царским указом: они отражали настроения, сложившиеся в результате отсутствия баланса политической и экономической власти на побережье Балтики. Жизнь отдельных эстонских, латышских и литовских авторов демонстрирует примеры уверенной культурной самоидентификации и уверенности в собственной культуре, и наличие подобных писателей говорит о становлении их читательской аудитории; однако их количество еще не достигло критической массы, позволяющей говорить о литовском, латышском или эстонском образованном сословии. Чтобы получить должную оценку своих трудов, они должны были вращаться в уже сложившихся кругах немецко-или польскоговорящих интеллектуалов. Последние, в свою очередь, в этот период были больше озабочены своей ролью защитников и хранителей западной культуры во все более и более агрессивном русскоязычном политическом контексте, включавшем систему цензуры, распространявшейся на все публикуемые издания (возможно, наиболее жестокой эта цензура была именно в литовско-польских землях), и растущее беспокойство представителей российской администрации относительно того, что западные приграничные районы могут быть слишком подвержены сепаратистским порывам.
В дополнение к этому, образованные потомки крестьян испытывали сильный соблазн, связанный с практической стороной жизни: Россия нуждалась в специалистах всех видов и уровней, работу можно было найти если не в Балтийском регионе, то, во всяком случае, в растущих центрах Империи, поэтому добровольное восприятие русской культуры было теперь не сложнее, чем добровольное онемечивание или ополячивание. Приверженность языку предков, упорное создание произведений на нем на протяжении десятилетий, готовность заимствовать культуру высших классов — все это требовало от носителя упомянутых ценностей особой концентрации, которую нелегко обрести и поддерживать. Исключения уже существовали: Донелайтис, написавший (но не опубликовавший) труд, ставший позже одним из краеугольных камней современной литовской литературы; Индрикис Хартманис (1783–1828), известный как Слепой Индрикис, крепостной ремесленник, рано потерявший зрение, но писавший при этом стихи на латышском языке, — стихи эти были такого уровня, что привлекли внимание пастора — балтийского немца, который перевел и опубликовал их, а также Фридрих Рейнгольд Крейцвальд, замечательный врач, который остался в памяти потомков как «первооткрыватель» эстонского национального эпоса. Труды этих авторов ясно показывают, что важнейшие свершения в сфере литературного творчества не коррелируют прямо с хронологией политической и социальноэкономической истории и не объясняются одним лишь историческим контекстом; здесь важным фактором, который необходимо принимать во внимание, является психология личности и ее творческий потенциал.
6. Пять десятилетий преобразований (1855–1905)[22]
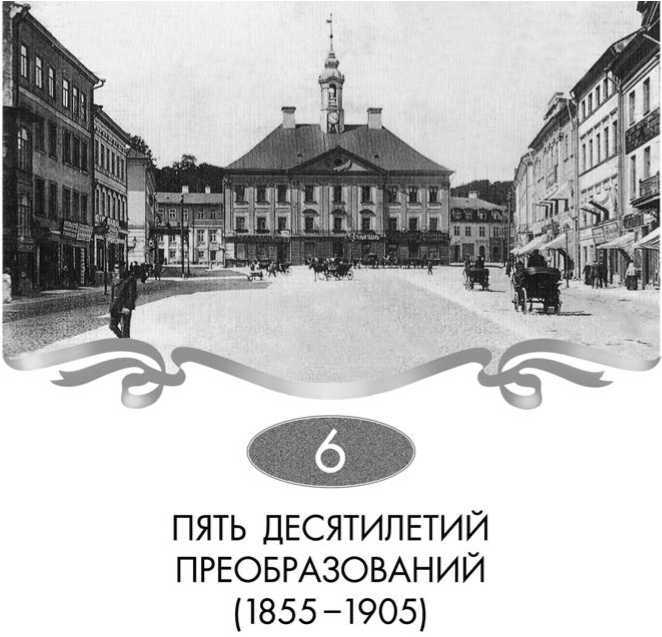
В истории Российской империи 50-е годы XIX в. ознаменовались двумя событиями величайшей важности: вступлением на престол еще одного «царя-реформатора» — Александра II и бесславным завершением Крымской войны (1853–1856). Последнее вызвало в приближенных к императору кругах обсуждение фундаментальных реформ, которые могли бы вывести Россию на уровень, на котором, как считалось, находились передовые страны Западной Европы. На побережье Балтики все эти события совпали с определенными разочарованиями местного характера: освобождение крепостных крестьян в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии и учреждение отработочной ренты не способствовали существенному прогрессу в сельском хозяйстве. Сельское население по-прежнему выражало беспокойство; либеральные идеи укрепились даже в умах некоторых представителей рыцарств, не говоря уже об образованной публике; городской патрициат высказывал все большее возмущение из-за невозможности использовать возрастающие возможности в сфере торговли и коммерции. В разделенной Литве жесткая русификация Николая I не смогла уничтожить память народа о едином государстве и о провале восстания 1830–1831 гг. Другие события, происходившие за пределами Империи, также нашли отклик на ее западных границах: революции в Центральной Европе (1848), казавшиеся безрезультатными, все же разрушили «систему Меттерниха» и породили поколение центральноевропейских националистов, мечтавших о «весне народов». Объединение Италии (1860) и Германии (1870–1871) стало образцом для других европейских народов, живших в многонациональных государствах под властью элиты иной национальности и говорившей на другом языке. Эти изменения носили позитивный характер даже в тех случаях, когда те, кто хотел перемен, руководствовались некими смутными идеалами и не имели четкого понимания, к чему такие перемены могут привести.
В течение следующих пяти десятилетий «дух времени», означавший перемены, модернизацию и проведение масштабных реформ, произвел фундаментальные и необратимые изменения в жизни населения Балтийского побережья. Более того, изменения в этот период не только стали обычным явлением, но и беспримерно ускорились в связи с появлением новых технологий в сфере транспорта и коммуникаций, с распространением новых средств производства в рамках фабричной системы, со стремлением к получению образования во всех социальных слоях, с уничтожением барьеров, препятствовавших внутренней миграции в Империи, и с возникновением новых, более ярко проявлявшихся форм национального самосознания. Причинность явлений стала намного более сложной, так как реформы во всех аспектах социально-экономической жизни непосредственно влияли друг на друга и способствовали взаиморазвитию. Единственной сферой повседневной жизни в Империи в целом и на побережье в частности, лишь незначительно затронутой модернизацией, оставалось управление: Россия сохраняла характер автократической державы, на территории балтийских губерний (Эстляндия, Лифляндия, Курляндия) политическая власть по традиции оставалась в монопольном владении высших слоев балтийских немцев, в то время как в литовских землях очередное неудачное восстание (1863) лишило польские правящие элиты их положения и привело к замене на представителей российской администрации. Общая ситуация на Балтийском побережье с каждым десятилетием становилась все более аномальной, поскольку быстро меняющееся общество приобретало современные черты, в то время как политическая система определенно стремилась к тому, чтобы сохранить гегемонию существующих элит. Продолжающаяся конфронтация и связанные с ней разочарования приводили в конечном итоге к дальнейшей потере человеческого капитала, поскольку тысячи жителей балтийских губерний начинали искать лучшей доли во внутренних областях Российской империи, а тысячи литовцев покидали родину ради «земли обетованной» в Северной Америке.