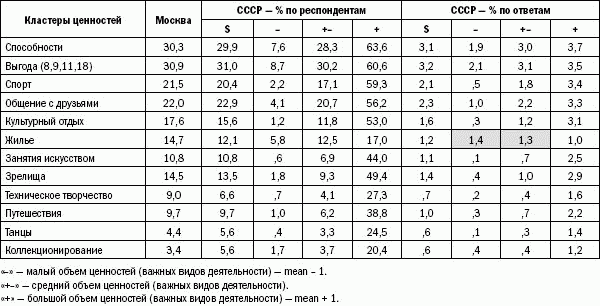
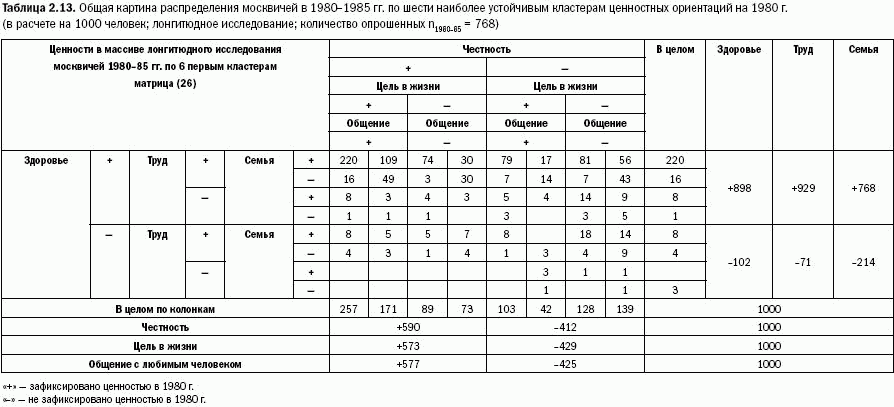
Тем самым возникает идея, условно скажем, некоторых матричных состояний и структур человеческого действия и сознания, в пространстве которых […] «идеально» формируются – и в людях порождаются в качестве осадка или вторичного продукта – состояния или человеческие свойства памяти, верности, добра и т. д. Тем самым мы тогда можем говорить, что сознание в отличие от того сознания, какое показывал нам принцип «когито», есть некоторое структурное расположение в пространстве и времени этих артефактов или третьих вещей. Это не пространство и время нашей обыденной практической жизни. Но только выйдя в него и вернувшись из него сюда, мы рождаемся, а, как известно, люди рождаются только вторым рождением. Я специально употребляю этот очень древний и точный символ, чтобы замкнуть им свое рассуждение. Что будет на стороне человеческого действия, как оно будет структурироваться и т. д., зависит от того, какие создались такого рода «третьи вещи" (или наши органы или приставки к нам самим), через которые мы конституируемся […] Они не изображают, а через свои элементы изображения чего-то призрачного, невидимого, сказочного конструируют. […] Если вы привяжете ребенка и не дадите ему играть и фантазировать, т. е. заниматься чем-то внеопытным и к жизни не имеющим отношения, то вы не получите в итоге из этого ребенка человеческого существа»[64].
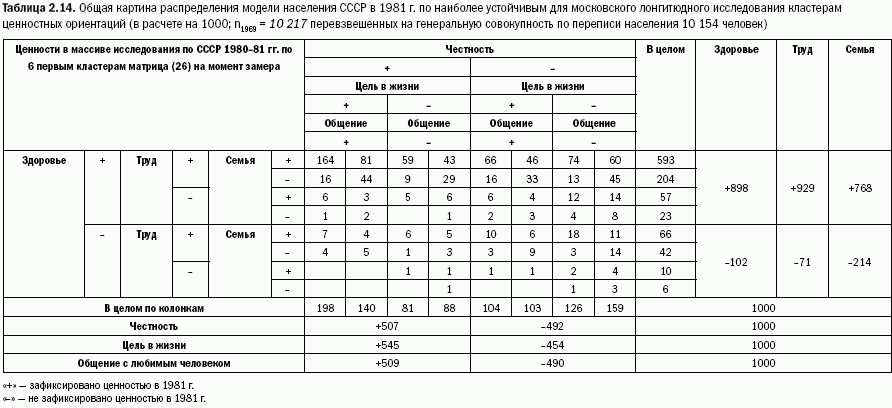
Мы вернемся к этим классическим посылкам после анализа эмпирических данных о происшедшем и продолжающемся разрушении «полей смыслов» (в разобранном выше смысле «третьих вещей»). Конечно, можно было бы комментировать и сейчас, сопровождая комментарий выводами о составе групп, переходящих от одной ценности к другой. Но это увело бы изложение в детали, тогда как задача прежде всего в иллюстрации общих контуров пространственно-временной модели человеческой активности и характера ее разверток. Вкратце замечу лишь следствие из роли «третьих вещей» и детских игр. Если вы, управляя социальной системой, не предоставите объективно требуемой экономической свободы, а будете навязывать статус-кво институтов частных или корпоративных интересов, например, форм собственности, вы разрушите систему. Если вы при этом неизбежно вынуждены будете строить полицейское государство, то на другом полюсе вы с железной необходимостью получите преступное сообщество. Как убеждали шестнадцать лет назад по другому поводу – «иного не дано».
Перейдем к анализу уже совершенно очевидного из предыдущих данных волнового, циклического относительно некоторых констант характера метаморфоз форм пространственно-временных состояний общественной системы.
Волновой характер поведения системы на шкале времени
Картина скорости изменений и активности в целом
Общая скорость изменений. Уже в ходе второго таганрогского исследования в 1979 г. в ИСИ АН СССР мы столкнулись с тем, что общая масса деятельности в объеме того или иного подсистемного предметно-институционального континуума, измеренная числом реализуемых человеко-форм, устойчива. Изменения свидетельствовали о социальных подвижках – насыщение рынка тем или иным товаром, смены политической или идеологической линии управления и т. п., но в целом показатели энтропии, средние, дисперсия, корреляции, говоря о «пульсациях» в тех или иных участках социального организма, оставались возле своих предыдущих значений. Теперь понятно, что мы наблюдали профиль «волны» движения форм жизни в социальном пространстве. Зная это, можно, используя возрастную шкалу, рассмотреть на ней все три элемента, представленных в предшествующем изложении: предыдущую и последовавшую активности, скорость изменений. Рассмотреть на возрастной шкале эти нормированные элементы можно, во-первых, в целом, во-вторых, как в рамках различных подсистем деятельности и сознания, так и в их связи или корреляте, в-третьих, в рамках связи указанных подсистем с учетом вектора (на плюс или на минус) и величины изменения скорости изменений активности от точки баланса, в-четвертых, в рамках тех подсистем, которые будут найдены при решении трех предыдущих задач. Именно они могут указать то количество асинхронных спиралей социального пространства, которое говорит и о его «n»-мерности, и его морфологической структуре.
Конечно, рассматривая объекты пространственно-временной структуры социальной среды, мы ограничены двухмерной на плоскости и трехмерной в объеме графикой. Однако за коррелятом спиралей степеней активностей и скоростей в зависимости от смены параметров тех или иных подсистем социального целого мы сможем понять и представить его структуру.
При выборе возрастной шкалы мы остановились на парной. Работа по выбору шкал с учетом нормирования параметров длилась около месяца с помощью Table Curve 2D. Дело в том, что погодовая шкала дает очень точные колебания и активности и скорости ее изменения у каждого человека в лонгитюдном исследовании. Однако, несмотря на высокую надежность данных (что уже было показано), дробность шкалы снижает степень приближения моделей до 71 %. Это нас не устраивало. Трехлетний интервал возрастной шкалы повышал степень приближения до 100 %, но «смазывал» пики и провалы, а значит, не давал «резкости» наблюдений через корреляции амплитуды и длины волн скоростей в различных подсистемах. Эту шкалу также пришлось испытать на всех выделенных подсистемах форм деятельности и сознания и выбраковать. Шкала возрастов с двухлетним интервалом, несколько смазывая пики волн, дает степень приближения от 92 % и выше, а кроме того, служит очень наглядной графической иллюстрацией в рамках статпакета SPSS, что немаловажно при представлении логики изложения и результатов. Только один первый график амплитуды и частоты колебаний величины скорости изменений количества форм деятельности по каждому человеку мы приводим на годовой интервальной шкале для иллюстрации всех оттенков подъемов и провалов. Повысить надежность годовой шкалы позволят лонгитюдные исследования объемом не менее 1500 – 2000 наблюдений. Это дело будущих исследователей.
Обратимся к данным табл. 2.15 и выполненным на их основании графическим картинам, начиная с рис. 2.9.
Рис. 2.9.Амплитуда и частота изменений скоростей уменьшения и роста количества форм жизнедеятельности респондентов с определенным числом лет по данным лонгитюдного исследования москвичей 1980-85 гг. Шкала возраста погодовая; на данных табл. 2.15, колонки 4. По оси «Y» отложены нормированные значения разницы между числом форм жизни индивида в 1985 и 1980 гг. Скажем, 50 – 40 = 10 или 25 – 53 = -28. Эти значения нормированы по точке баланса: средней, принятой за «0»
Этот и последующие графики сделаны на основании данных табл. 2.15. Разница, однако, в том, что последующие иллюстрации сделаны на базе попарных группировок возрастов. На графиках (кроме трех линий рис. 2.10) показана скорость, а не активность. Три линии на рис. 2.10 как раз показывают общую величину активности того или иного возраста среди москвичей 1980 г., среди них же через 5 лет и в границах Всесоюзного исследования образа жизни в 1981 г. в 10 154 человека. Это дает наглядное представление о принципиальном сходстве полученных результатов в рамках различных групп населения и населения в целом, что в свою очередь свидетельствует о массовости и всеобщем характере измеряемых процессов.
Что мы видим? Во-первых, процесс подъемов и снижений активности носит ярко выраженный волновой характер. Во-вторых, после 47,5 лет начинается абсолютное понижение скоростей активности перехода с одного количества форм жизни на другое, которое нигде более не достигает даже нижних пределов скоростей предшествующего поколенческого слоя. В-третьих, абсолютное снижение скоростей изменения количественного параметра активности сопровождается трехкратным, возрастающим по амплитуде и сокращающимся по частоте к концу жизненного цикла людей, относительным увеличением скоростей. Мы видим процесс превращения людской активности в материальную структуру человеческого сообщества – в мир институтов, вещей, стоимостей и символов. Мы видим относительно разные амплитуду и длину волны переходов в различные ареалы социума в первой и второй половине жизни, активность юности, безнадежно падающую после начала процесса замещения поколений, социальную агонию стариков. В характере длины волн мы впервые угадываем разную кривизну материальной воронки социального пространства актов обмена деятельностями, куда эта волна втягивается (рис. 2.7). И уже эта картина говорит, что мы могли бы жить значительно дольше и лучше, хотя график отражает не самое плохое время в стране.