Довид Кнут
Собрание сочинений
В двух томах
Том 1
Довид Кнут: поэтика и эпоха
Настоящее издание — первое в новой серии изданий Еврейского. университета в Иерусалиме, связанной с проблемами еврейско-русских литературных и культурных связей, контактов и исторических перипетий, — посвящено творчеству Довида Кнута. В предлагаемом двухтомнике мы представляем почти все, изданное им на разных языках — по-русски, на иврите и по-французски. По понятным причинам статьи Кнута, вышедшие в свет в палестинской и израильской периодике на иврите, даются в переводе на русский язык — тем более, что сам автор писал их в оригинале по-русски, и они переводились на иврит уже в редакциях газет. Правда, его оригинальные русские тексты не сохранились, и обратный перевод, возможно, проблематичен в смысле стиля и т. п. Впрочем, речь идет о газетных статьях, где эта проблематичность не так принципиальна и болезненна, как в художественных произведениях.
Представленные вместе в одном издании поэтические и прозаические тексты Довида Кнута существенно меняют сложившееся до сих пор представление о нем. Именно эта смена оценок и заставляет более пристально взглянуть не только на сами стихи поэта, но и на его эпоху — и на роль поэта и его стихов в этой эпохе. Конечно, основные координаты его места в истории литературы XX-го века останутся неизменными. Довид Кнут — это еврейско-русский поэт русской эмиграции; не просто русский поэт еврейского происхождения или еврей, пишущий русские стихи, а поэт, сознательно построивший себя как поэт еврейско-русский. Это построение, эта конструкция были созданием далеко не простым. При том что эта непростота не только существовала на всем протяжении творческой жизни Довида Кнута и его общественной биографии, ее характер, степень и влияние на творчество поэта и его судьбу меняются от года к году, от сборника к сборнику и от одной исторической эпохи к другой.
Начнем с самого бросающегося в глаза — с имени поэта, — Довид Кнут. Уже в самом этом имени, в сочетании подчеркнуто еврейского, а точнее, идишского, или ашкеназски-ивритского варианта имени Давид с его сменой а на о и ударением на первом слоге (Дóвид — такое имя мог дать себе лишь человек, который хотел, чтобы люди, встречающиеся с ним, сознательно воспринимали его принадлежащим к актуальному еврейству, слышащим и говорящим еврейское) с фамилией, по происхождению своему чисто русской — кнут[1], хотя и указывающей на «родовую» еврейскую профессию извозчика, балаголы («баал-агала»
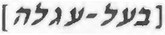
— ‘возчик’, ‘извозчик’ на иврите), распространенную на юге России, — во всем этом содержится если не вызов, то декларация позиции, защита прав на существование такого вот гибридного еврейско-русского существа, прокламирующего свое еврейство — но в сугубо русской среде и на русском языке. Такого специально еврейского поэта в русской поэзии того времени больше не было. Довид Кнут замечателен уже хотя бы тем, что он смело и не оглядываясь провозгласил себя национально мыслящим евреем, живущим и творящим на русском языке, что он поднял святое бело-голубое знамя со щитом Давида в самой сердцевине и цитадели русской культуры — в русской поэзии. Поднял он это знамя не как хоругвь, осеняющую несчастный и гонимый народ — каким еврейство, в сущности, и было в те страшные годы антисемитизма, преследований и геноцида, когда творил Кнут, — но как боевой вымпел, как символ победы. В русскоязычной поэзии России и тем более эмиграции ничего даже отдаленно похожего сказано не было. В России молодые пролетарские и коммунистические поэты еврейского происхождения либо спешили вовсе сбросить с себя груз еврейства — забитого, местечкового, совсем непролетарского, как Эдуард Багрицкий, Михаил Голодный или Джек Алтаузен, либо вспоминали о еврействе как о чем-то, свойственном «им», «персонажам», пусть даже «героям» (как
Иосиф Коган Багрицкого), но не как о своем. В эмиграции же Кнут со своим подчеркнутым еврейством и вовсе был уникален.
Впрочем, это не совсем так. Был еще один еврейско-русский литератор, с гордостью пропагандировавший свое еврейство — Владимир (Зеэв) Жаботинский. И, действительно, даже в их судьбе — литературной судьбе — было нечто сходное: оба начали карьеру в качестве русских поэтов, а затем ушли в национально-освободительную борьбу еврейского народа, которой посвятили всю оставшуюся жизнь, отказавшись от участия в русской литературе. Но все остальное было уж настолько непохоже, что именно эта непохожесть позволяет лучше понять особенности Кнута (да и Жаботинского). Начнем с самого очевидного — с возраста. Жаботинский на 20 лет старше Кнута. Это позволило ему, во-первых, очень рано стать в первые ряды еврейского национального движения и занять в нем одну из руководящих позиций; во-вторых, однако, это обстоятельство помешало ему столь же блестяще проявить себя на поприще русской литературы. И дело не только в сознательном решении Жаботинского посвятить себя делу еврейского освобождения и еврейской национальной культуры, хотя это решение и было делом исторически и лично главным. Дело еще и в том, что Жаботинский и Кнут, который, во многом, может считаться его последователем, вошли в русскую культуру в принципиально различное время и при диаметрально противоположных обстоятельствах. Жаботинский принадлежал к самому первому поколению русских евреев, для которых русская культура, и прежде всего русский язык и русская литература, могли по праву считаться родными, ибо другого родного языка и другой литературы он с детства не знал. Владимир Евгеньевич был блестящим знатоком и ценителем русского языка, еврейскими же языками (ивритом и идишем) он в детстве не владел, а выучил их уже будучи взрослым. При этом именно в годы литературного и общественного возмужания Жаботинского возник в русской литературной и общественной полемике пресловутый вопрос о еврейском засилье, о «порче» евреями русского языка и русской литературы — в связи с т. н. «делом» Чирикова, а также вследствие нашумевших публицистических высказываний Андрея Белого («Штемпелеванная калоша») и тщательно скрываемых, но вполне известных в литературных кругах черносотенных настроений виднейших символистов Валерия Брюсова и Александра Блока. Одной из главных претензий всех этих ревнителей чистоты русского слова к евреям было нежелание последних оставаться в рамках культуры еврейской и их упорное и настойчивое стремлениё подвизаться в культуре русской без того, чтобы принять на себя все полагающиеся для настоящих носителей этой культуры обязательства: любовь и привязанность к чисто русским этническим, фольклорным и религиозным (православие) началам.
Жаботинский, никоим образом не соглашаясь с юдофобскими мотивами русских критиков еврейской активности в русской культуре, был совершенно согласен с их анализом. Для него — так же, как и для них, — существовало представление о некоем высоком идеале (или просто норме) национальной культуры, который не может быть понятен и доступен людям инородческого происхождения. А поскольку для Жаботинского лишь самый высокий уровень творчества и его подлинная внутренняя свобода только и могли оправдать (но никак не в моральном плане!) участие евреев в нееврейской культуре, оставаться в этой культуре стало абсолютно невозможным. Творчество для евреев должно было быть только на языке иврит.
За эти двадцать лет, что отделяли поколение Жаботинского от поколения Кнута, произошел настоящий культурный — и социальный — переворот. Любопытно, что в те годы подлинные масштабы этого переворота, равно как и его окончательность, еще не всем были достаточно очевидны, поэтому споры вокруг еврейского участия в русской культуре, усугубленные перцепцией особой роли евреев в русской революции, принимали более или менее острый и болезненный характер. На самом же деле понять и осмыслить степень, роль и окраску еврейского участия в русской литературе и культуре вообще — и особую и особо важную роль в этом поэта Довида Кнута — можно лишь в контексте общего движения русской культуры начала XX века.