Первым — и это понятно — стали восстанавливать «Златоверхий» храм Пресвятой Богородицы. Он был завершён строительством и освящён «великим священием» епископом Лукой 14 августа 1188 года, в канун праздника Успения Божией Матери; «и бысть радость велика в граде Владимире», — свидетельствует летописец. Это был действительно большой праздник, на котором рядом со Всеволодом стояли его трёхлетний сын Константин и зять Ростислав Ярославич (были, конечно же, здесь и представительницы женской части княжеской семьи, но упоминать о них летописец, как всегда, не счёл нужным).
Трудно сказать наверняка, русские или иноземные мастера руководили восстановлением храма. Последнее кажется более вероятным: всё-таки связи с западным миром установились у владимирских князей ещё со времён Андрея Боголюбского, который охотно привлекал в свой город «делателей» из других стран, и едва ли Всеволод, сам побывавший на Западе, пресёк эту практику. Известно, что в 1475 году владимирский Успенский собор осматривал знаменитый итальянский архитектор Аристотель Фиораванти, признавший его творением не местных, но западноевропейских зодчих48. Не доверять его профессиональной оценке у нас нет никаких оснований. Да и суздальский летописец, кажется, намекал на то, что Всеволод предпочитал искать мастеров «от Немец», то есть из стран латинского Запада, а не от «своих» людей49.
Княжеским зодчим пришлось не просто восстанавливать, но по существу возводить собор заново. Старые стены были обнесены новыми высокими и мощными галереями, на углах которых появились четыре главы с золочёными куполами, так что собор стал пятиглавым — таким, каким мы видим его сегодня. «Великий князь Всеволод Юрьевич церковь Владимирскую сугубо округ ея упространи и украси, юже брат его князь Андрей постави об едином верее... Всеволод же четыре верхи назда (надстроил. — А. К.) и позлати» — так описывал результаты этого поновления московский книжник XVI века, один из авторов «Степенной книги царского родословия»50.
В ходе этих работ старые стены собора оказались как бы в футляре новых51, и между ними образовалась просторная галерея, предназначенная стать усыпальницей для почивших князей и святителей. Для этого во вновь возведённых стенах выложены были особые ниши. Пройдёт время, и в приделе собора упокоится сам князь Всеволод Юрьевич.
Всеволод не стал особо украшать церковь с внешней стороны: на новые стены были перенесены лишь немногие отдельные рельефы, вынутые из стен старого здания. Разной оказалась толщина стен, не везде соблюдены симметрия и пропорции. Даже аркатурно-колончатый пояс — главное украшение храма — не на всех стенах оказался на одной высоте.
Это была первая крупная работа зодчих Всеволода Большое Гнездо. Историки архитектуры по-разному оценивают её. По мнению одних, «зодчие блестяще справились со своей задачей», проявили «большую техническую смелость, свидетельствующую об их недюжинном инженерном опыте», а также «особую чуткость» и понимание стиля52. Другие, напротив, обращают внимание на явные нарушения пропорций и отдельные неудачные решения при перестройке храма: соглашаясь с тем, что владимирские мастера выполнили свою основную, чисто прагматическую задачу, укрепив и расширив прежний храм, они полагают, что в архитектурном плане перестроенное ими здание можно назвать «шагом назад» по сравнению с прежним собором Андрея и даже более ранними храмами Юрия Долгорукого53.
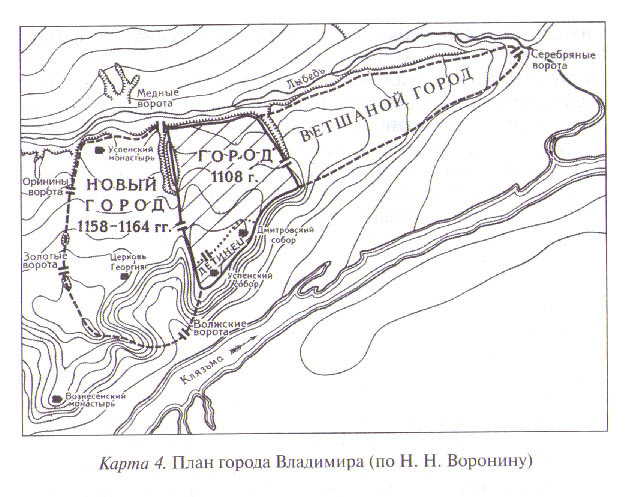
Воздержимся от каких-либо собственных оценок — это дело профессионалов. Новый пятиглавый собор — конечно же, после многочисленных поновлений ещё более позднего времени — каждый может лицезреть сам, посетив Владимир. Суровое его величие впечатляет — собор стал подлинным символом города и всей Владимирской Руси. Но вместе с тем ещё и памятником его создателям — князю Андрею Боголюбскому и продолжателю его дела Всеволоду: они оба погребены здесь. Что же касается искусства Всеволодовых зодчих, то оно с годами будет расти; подлинные их шедевры — великолепный Дмитриевский собор во Владимире, соборы Рождественского и Успенского Княгинина монастырей там же — ещё впереди.
Пока же скажем о том, что, обновив и «упространив» главный храм своей земли, Всеволод в глазах подданных сравнялся со старшим братом. Точно так же, как Андрей, он будет украшать церковь, заново наполнять её святостью и богатствами — так что последующие книжники будут с таким же благоговением перечислять их: и драгоценные оклады икон, и почитаемые кресты, и священные сосуды, и хранившиеся в церкви одеяния «блаженных первых князей», и священнические облачения. Упоминают летописцы и «чудное дно медяное», то есть выстланный медными плитами пол Успенского храма (он уцелеет во время Батыева погрома, но будет выломан и унесён татарами Дюденевой рати, разграбившими Владимир в 1293 году). Надо думать, что этот исключительно ценный по тем временам материал был закуплен князем Всеволодом специально для собора и на собственные средства54. Подтвердит Всеволод и все пожалования клиру своего главного храма, в том числе «городы ея и дани», возвращённые церкви его братом Михалком Юрьевичем. В летописи упоминается один из таких городов — Гороховец на правом берегу реки Клязьмы, на востоке нынешней Владимирской области — «град Святой Богородицы», как называет его летописец: этот город будет сожжён в нашествие Батыя в 1239 году.
...Когда в самом конце XIII столетия, уже после ордынского нашествия на Русь, один из владимирских епископов (Иаков или Симеон) будет обращаться к не названному по имени князю, сыну Александра Невского (Дмитрию или Андрею), он будет ставить ему в пример его предков — «прадедов и дедов», неустанно заботившихся о «Святей Богородице Володимирской»: как они «украсили церковь Божию клирошаны и книгами», как «богатили домы великыми, десятинами по всем градом и суды церковными...»55. «Прадеды» (во множественном числе!) — это первые устроители церкви, Всеволод и Андрей, чьими стараниями град Владимир и был превращён в «город Святой Богородицы», находящийся под Её особым и неусыпным покровом.
Вторая Рязанская война
Первый поход Всеволода на Рязань в 1180 году привёл к подчинению ему Рязанской земли. Братья Глебовичи целовали крест «на всей воле Всеволожи» и обязались каждый держаться своей волости. Вместе участвовали они и в походах владимирского «самодержца». Но мир в Рязанской земле продержался недолго. Причиной новой войны вновь стала вражда между князьями, и вновь из-за Пронска. Пожалуй, нигде на Руси вражда между братьями не достигала такого ожесточения, как в Рязанском княжестве, а мирить князей на первых этапах этой бесконечной междоусобицы приходилось Всеволоду Юрьевичу.
«И бысть крамола зла вельми в Рязани: брат брата искаше убити» — так начинает рассказ о Рязанской войне 1185 года Лаврентьевская летопись. По убеждению летописца, крамола эта всегда и везде есть дьявольское наваждение: так было и в прежние дни, когда ненавистник рода человеческого воздвиг Каина на Авеля, а потом окаянного Святополка на Бориса и Глеба, — и всё ради власти, «абы единому власть прияти, а братию избити»; так случилось и теперь, когда старшие Глебовичи, Роман, Игорь и Владимир, задумав извести братьев, начали войну против младших, Всеволода и Святослава, княживших в Пронске56. Впрочем, такова версия суздальского летописца — мы же не будем забывать о том, что великий князь Всеволод Юрьевич поддерживал в этой войне своего рязанского тёзку. А потому к версии, изложенной в Лаврентьевской летописи, нельзя относиться как к вполне объективной.
Как видим, по сравнению с первой междоусобицей расклад сил в семье рязанских князей изменился, но ненамного: Владимир и Святослав поменялись лагерями (предварительно, видимо, поменявшись и волостями); Всеволод же сохранил княжение в Пронске, оставшись во враждебных отношениях со старшими Романом и Игорем (ещё один Глебович, Ярослав, участия в событиях не принимал). Старшие предложили уладить спор на княжеском «съезде», собравшись все вместе, впятером; однако веры им не было: младшие посчитали, что их приглашают на съезд «лестью», обманом, только для того, чтобы схватить или даже убить. Может быть, это было лишь плодом их воображения, а может быть, и правдой. Историописатели более позднего времени также расходились во мнениях. Одни винили во всём старшего, Романа, который и натравил братьев на злое дело (или даже его злую жену — напомню, дочь великого князя Святослава Всеволодовича); другие — младшего, Всеволода, бывшего будто бы зачинщиком смуты. Так или иначе, но, опасаясь нападения, Всеволод и Святослав начали «город твердити», то есть готовить Пронск к осаде. Это было расценено старшими Глебовичами как объявление войны: «...И они услышали, что город укрепляют, и пошли к Пронску, собрав воинов множество; те же затворились в граде. И начали воевать град их и сёла».