1995
Тятя! Тятя! Наши CETI...
Карл Саган. Контакт. М.: Мир («Зарубежная фантастика»)
Американца Карла Сагана – биолога по образованию, планетолога по специальности, популяризатора науки по призванию – покойный Иосиф Шкловский ласково-насмешливо именовал Карлушей и отводил ему «в спектре деятелей по проблемам внеземных цивилизаций» местечко «на крайне розово-оптимистическом фланге». Если сам Шкловский, когда-то выпустивший «Вселенную. Жизнь. Разум», под конец жизни пришел к печальному выводу, что мы все-таки одиноки во Вселенной, то Саган по-прежнему остается ярым приверженцем гипотезы о безусловной обитаемости Космоса. То бишь о наличии там и Жизни, и Разума в больших количествах. Поскольку чисто научным способом данная гипотеза пока не подтверждается, предпринят был обходной маневр. Еще лет десять назад журнал «Америка» оповестил советских читателей о желании Карла Сагана написать научно-фантастический роман под бодрым названием «Контакт», а заодно и о некой солидной сумме, выплаченной издателями авансом, под имя автора и под это оригинальное название. И действительно: известный ученый-популяризатор не обманул ничьих надежд. В особенности же не обманул он тех, кто ни на что и не надеялся.
Догадливый читатель данный абзац может смело пропускать. Для менее сообразительного кратко излагаю сюжет. Итак, радиоастрономы всего мира слушают Космос, надеясь выудить сигналы внеземных цивилизаций. На 90-й странице удача улыбается трудолюбивой Элинор Эроуэй, директору небольшой обсерватории в штате Нью-Мексико. Сигналы идут от Веги. Полсотни страниц земляне объединенными усилиями эти сигналы принимают, еще страниц сто расшифровывают, еще страниц полтораста строят чудо-машину по инопланетным чертежам. Когда конец романа уже близится, а все лекции по радиоастрономии уже прочитаны, автор с вялого бега пенсионерской трусцой переходит на активный галоп, кое-как доделывает агрегат и отправляет пятерых представителей объединенного человечества внутри непонятного агрегата неведомо куда. Экипаж, само собой, интернациональный: помимо самой Элли Эроуэй присутствуют представители Китая, Индии, Нигерии и Советского Союза (последнюю из перечисленных стран представляет знаменитый ученый Луначарский – дальний родственник того самого). Всего за час машина забрасывает всех пятерых экскурсантов за тридевять планет, и в точке рандеву им объясняют: Вселенная густо населена, у населения полным-полно проблем. Дело в том, что упомянутая Вселенная «расширяется, и не хватает материи, чтобы остановить этот процесс». Делать нечего: «Придется заняться увеличением локальной плотности материи. Добрая работа и честная». Казалось бы, для внеземлян, которые разработали столь совершенные средства межзвездной коммуникации, взять и уплотнить сколько надо материи – задача пустячная. Ан нет: это самое космическое метро через черные дыры придумал кто-то еще раньше, еще более древний и мудрый, и внеземляне лишь пользуются готовеньким. Ну а земные-то экскурсанты для чего понадобились? Очевидно, для разговора по душам – ничего другого автор придумать не может и отправляет всех обратно. Финал романа должен удовлетворить сразу несколько категорий читателей. Тем, кто с тоской пролистывал пассажи о том, «что характер радиоизлучения не допускает никакой альтернативы жаре на поверхности Венеры», приготовлен подарочек: злой отчим Элли, оказывается, вовсе не отчим, а родной отец. Мексиканская драма. Читателей, которых раздражал атеизм многих персонажей романа, тоже поджидает сюрприз: тот древний строитель метро в Черных дырах, оказывается, не кто иной, как Он. Да-да. Ну и людям, не чуждым точных наук, есть в финале чему порадоваться. Ибо факт Его присутствия героиня извлекает из фантастических свойств числа «пи». Занавес.
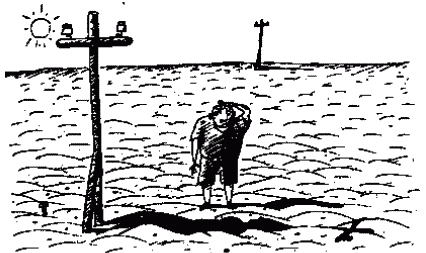
Как видим, три последних сюрприза довольно милы, однако на шесть сотен страниц формата покетбука их маловато. Особенно если учесть специфический стиль автора, усугубляемый переводчиком. («Прочие преподаватели видели в дипломниках интеллектуалов, прагматически рассчитывая передать в руки молодого поколения факел познания...» и т. п.). Особенно если принять во внимание, что даже с точки зрения научной популяризации (которой научная фантастика, кстати, служить вовсе не обязана) роман опоздал лет эдак на двадцать пять – тридцать. Согласно все тому же Шкловскому, первая статья о возможностях межзвездной радиосвязи опубликована еще в 1959 году. С тех пор и фантасты, и ученые-фантасты (Хойл и Эллиот в «Андромеде», Лем в «Гласе Божьем» и многие другие) выдоили из этой темы практически все возможные детективные, философские и социальные аспекты. Первый международный конгресс по проблемам CETI (Communication with Extaterrestrial Intelligence) состоялся еще в 1971 году – и это был пик всеобщего интереса к проблеме, после чего энтузиазм пошел на убыль, а тема радиоконтактов с инопланетянами в конце концов пополнила ряд, состоящий из НЛО, йети, разумных дельфинов, тунгусского метеорита – то есть тем, ставших в рамках сайенс-фикшн абсолютной банальностью. Писатель-ученый-популяризатор Карл Саган, похоже, не заметил, что стал жертвой собственной мономании, создав вещь, архаичную как по форме (традиции, восходящие едва ли не к Хьюго Гернсбеку), так и по содержанию. И если факт публикации книги в США можно было бы еще объяснить спекулятивным расчетом на громкое имя (расчет в определенной степени оправдался), то смысл сегодняшнего издания данного опуса в «Мире» лично для меня остается загадкой – куда большей, нежели все тайны упомянутых в романе пульсаров, квазаров и черных дыр.
Карла Сагана подвело плохое знание русской классики. Как известно, в произведениях Пушкина легко найти пророческие строки, из которых можно судить о бесперспективности темы CETI для современной НФ-литературы. И если в романе «Контакт» понадобились усилия компьютера, дабы проникнуть в дебри числа «пи», то в нашем случае достаточно простой контаминации «Сказки о рыбаке и рыбке» с «Утопленником».
1995
Романтики с большой дороги
Дуглас Адамс. Путеводитель по Галактике для путешествующих автостопом. Журнал «Если»
От пункта А до пункта Б вы можете в одиночестве дойти пешком. От Бирмингема до Ковентри доехать на личном автомобиле и даже велосипеде. Но океан вы уже не сможете (если вы, конечно, не Бомбар) форсировать в одиночку. Сядете как миленький в самолет или на борт лайнера, пристегнете ремни и будете с сотней других гавриков подчиняться расписанию. Чем длиннее расстояния, тем больше вынужденного коллективизма и меньше индивидуальной свободы.
Вышеназванный универсальный постулат писатели-фантасты на протяжении долгих лет развития жанра усвоили крепко-накрепко и не рыпались. В большинстве произведений мэтров западной НФ-литературы (Хайнлайна, Саймака, Олдисса и других) космические путешествия на большие расстояния неотделимы от априорной заданности маршрута и обременительного чувства локтя во время преодоления пути. Массы свободных граждан, имевших глупость купить билет (или подписать контракт), мчались в наглухо запаянных жестянках с фотонными двигателями из космического А в космическое Б. Пасынки вселенной: поколение, достигающее цели. Без остановки.
Англичанин Дуглас Адамс не придумал ничего нового. Успех его фантастического бестселлера объяснялся всего одним, но принципиальным обстоятельством: автор уравнял в правах отрезок шоссе между Бирмингемом и Ковентри с отрезком звездной трассы от Сириуса до Бетельгейзе. Великая Миссия превратилась в обычное путешествие, которое, как и на Земле, лучше всего совершать на халяву. Хипповатый хичхайкер с рюкзачком и в вязаной шапочке вышел на Млечный путь и поднял большой палец, надеясь тормознуть какой-нибудь пролетающий мимо фотонный драндулет.
Герои Адамса – люди, роботы, инопланетные божьи твари – перемещаются по звездной трассе с веселой непринужденностью земных путников, для которых главное, чтобы водитель, разозлившись, не выкинул тебя на полпути. Ради этого можно поддерживать самые идиотские разговоры в кабине, припевать хором и даже натужно восхищаться чудовищными виршами, сочиненными на твою беду космическим шофером. (В романе, кстати, героям так и не удается полностью сымитировать восхищение, и обозленный водитель выбрасывает их прямо в вакуум.) Самые удачные эпизоды произведения – именно такие вот путевые-бытовые сценки с минимумом фантастики. В традиционной НФ писатели-фантасты, как правило, затрачивают немало сил и фантазии, чтобы космос в их книгах выглядел обжитым и домашним; подчас на создание необходимой, разработанной во всех деталях атрибутики уходит слишком уж много изобразительных средств (как, например, у того же Хайнлайна «розового периода»), в результате чего фон невольно отодвигает на периферию сюжет. Дуглас Адамс добивается своего при помощи одной-единственной метафоры. Стоит читателю поверить, что земные и космические дороги взаимозаменяемы чуть ли не один в один, как читательское воображение послушно достраивает все само. Комизм возникает уже благодаря смене масштабов: легчайший фантастический декорум (пресловутые звездолеты и компьютеры) превращает этот классический прием, известный еще со времен Рабле и Свифта, в одну из несущих фабульных конструкций весьма современной НФ-литературы в ее «межпланетной» разновидности.