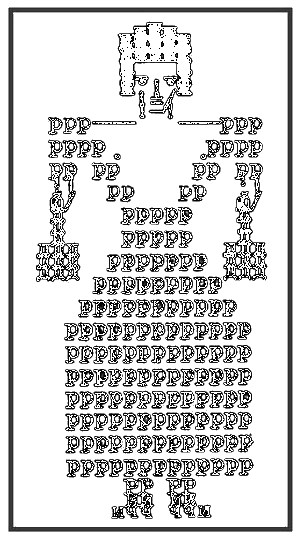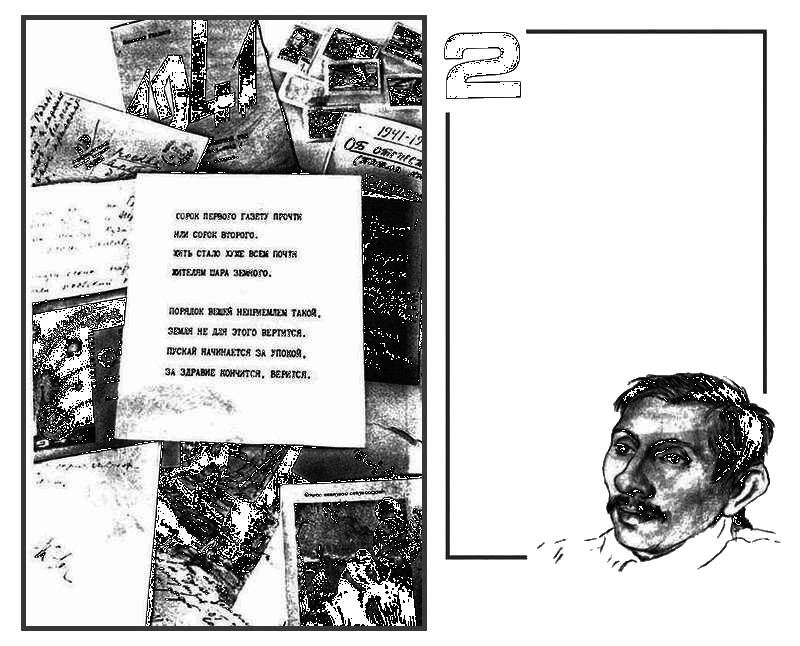Повторяю: Николай Глазков — не салонный поэт. Не слушатели необходимы были ему, а читатель. Через год, в ноябре, он снова появился в Ленинграде вместе с супругой Росиной — уже гостем Глеба Семенова. Седьмого ноября повторится вечер у нас на Петра Лаврова, все в той же комнатке, которая Росине покажется похожей на утюг, но вместит она еще большее число желающих.
В эти же дни о Глазкове прослышали на Ленфильме. И, конечно, возжаждали встречи с ним. Состоялась она в доме наших друзей, у прозаика Жанны Гаузнер — дочери Веры Инбер и супруги кинодеятеля.
Этой встрече с Глазковым, как всегда, казалось, не будет конца.
И снова шли письма. То коротенькие, то длинные со стихами. Дарил мне Коля и книжицы в фанерных переплетах. Одна из них застегивалась, как ларец, железным крючком.
С какого-то времени, особенно после вечеров в моем доме, я стала получать от Николая свои портреты, выполненные шрифтом пишущей машинки. Ошеломляет до сих пор, как мыслимо выстроить фигуру, лицо с чернью буйных волос из буквы р и буквы д вперемешку с точками и черточками. Хранятся у меня и несколько изображений храмов, «нарисованных» тем же способом. Рисунки сохранились, а книжицы «зачитаны» ленинградскими поклонниками Глазкова.
Ричи Достян. Рисунок на пишущей машинке Н. И. Глазкова
В 1966 году я покидаю Ленинград, но жизнь моя в Москве до такой степени сложна и неустроенна, что с Колей мы видимся случайно, редко, большей частью в ЦДЛ. Так и не выбралась я к ним, а ведь звали. И совестно, и горько.
Заканчивая эти запоздалые и торопливые строки о большом поэте, которого, несмотря на объяснимые и необъяснимые обстоятельства, так и не смогли «замолчать», я еще расскажу о встречах с именем Глазкова.
В 1969 году во время длительной поездки по ГДР сотрудник газеты «Верфштимме» («Голос верфи») в городе Ростоке спросил меня, не знаю ли я поэта по имени Гляскофф? Когда я сказала, что это мой «гроссе геноссе», он досадливо развел руками и посожалел, что не знает русского языка. Иначе дело обстояло в Берлине, на встрече в союзе писателей, где известный издатель подошел ко мне и на ломаном русском языке попросил уточнить строки до сих пор не опубликованного четверостишия. Он тут же вынул блокнотик и под мою диктовку записал.
Совсем недавно в гостях у меня побывал капитан дальнего плавания Александр Александрович Гидулянов, с которым я в 1971 году в составе экспедиции по перегону кораблей проделала немалый путь от Измаила до Ростова. Блистая великолепной памятью, Александр Александрович долго читал ведомого мне и неведомого Глазкова да еще похвастал, что в бухте Тикси в минувшую навигацию приобрел его объемистую книгу «Автопортрет».
Однако популярнее всего Глазков у геологов. И знают его наизусть, и поют на свои мелодии.
Можно услышать и в электричке песни на стихи Глазкова. Был даже случай, когда по радио глазковское стихотворение «Потеряли девки руль» было спето с таким вот сообщением: «Слова народные».
Географию изустной славы Глазкова установить невозможно. Еще невозможнее представить себе, что мог он создать, если б не был окружен глухой стеной официального безразличия.
Так и ушел, не озлобившись, на судьбу свою не жалуясь, лишь единожды вырвалось у него: «Стихи полузабытого Глазкова читались, почитались, не печатались…»
Первой своей книжки он дождался в возрасте тридцати восьми лет. И то вышла она не в столице, а в Калининском издательстве в 1957 году. 28 февраля была подписана к печати, а в апреле я уже получила от Коли эту книгу, не случайно названную «Моя эстрада», с надписью, из которой я приведу две последние строфы:
Писательница Ленинграда,
Дарю тебе «Мою эстраду»,
Ты в ней Глазкова ощутишь!
Однако будет книга эта
Не торжеством весны поэта,
А первой ласточкою лишь!
22 апреля 1957 г.
Считаю себя счастливой оттого, что многие годы моим защитником, товарищем, наконец, мужества примером был неповторимый художник и человек, который всей сутью своей вразумлял, что есть ЛИЧНОСТЬ, чей взгляд — поступок, жест — событие, слово — вечность!
II
Самуил Блинцовский
Мой друг — Коля Глазков
Теперь, спустя почти пять десятилетий, писать о первых встречах с Колей Глазковым, начале нашего знакомства, его учебе в институте в 1941–1942 годах, о первом годе нашей дружбы, длившейся до последних дней его жизни, нелегко. Что-то запомнилось настолько, будто происходило вчера. Многое, увы, забыто, и никакие потуги не в состоянии воскресить утерянного из памяти. И пусть это «многое» — всего лишь частности, отдельные факты, моменты, нюансы, но тогда они были очень существенны, важны для нас обоих. Это и мысли, фразы, реплики, озарения, отдельные слова, афоризмы, стихи и «стишата» Коли Глазкова, наконец, анекдоты, которых он знал очень много и с блеском рассказывал, красиво жестикулируя своими мощными ручищами.
Жалею, что не вел тогда дневника: могла бы получиться интересная книга о Колиной жизни в первые годы войны.
Познакомились мы 1 сентября 1941 года в Горьковском пединституте на оргсобрании студентов третьего курса литфака. Произошло это в одной из аудиторий сельхозинститута, куда нас перевели на неопределенное время, так как большая часть здания пединститута была отведена под госпиталь. На этом собрании нам объявили, что наш третий курс — последний, а выпуск — ускоренный — из-за войны, чтобы мы как можно раньше приступили к учительской работе.
В аудитории сидели мы не на стульях, а на скамейках. И запомнилось мне это, по сути ничтожное, обстоятельство благодаря… Коле Глазкову. Сидели мы на одной скамейке, он слева в полутора-двух метрах от меня. В промежутке между собранием и первой лекцией он неожиданно подался ко мне, корпус и голову под острым углом наклонил к моему лицу, пятерней причесал свои волосы и выпалил:
— Ты поэт? — в его глазах, как успел заметить, искорки любопытства, насмешки и какой-то «сумасшедшинки», что меня покоробило и немного напугало. Ответил отрицательно. В его глазах появилось нечто похожее на удивление. Вероятно, во всех сверстниках ему виделись одни поэты. Потом это выражение сменилось другим — глаза стали веселыми. Он хитровато улыбнулся и с уверенностью сказал: «Ты художник».
Вспоминаю, в товарном вагоне, в котором месяц катил на восток из Гомеля, пока прибыл в Горький, отрастил длинные баки. Может, они-то ввели его в заблуждение. Возможно и другое. Человек искусства внутренне богат. И он хочет видеть в других такую же одержимость. Ибо другую жизнь он себе не представляет. И, видимо, в этот момент Коля хотел мне отдать частичку своего, от себя. Я сразу понял, что он хороший человек.
Глазков широко улыбнулся (тут я заметил, что у него не хватает зубов), протянул мне свою ручищу, крепко стиснул мою левую так, что искры из глаз, и произнес: «Николай Глазков. Поэт, — и после короткой паузы, ожидая, какое впечатление произвело это сообщение, добавил: — И богатырь».
Он действительно был крепок, широкоплеч, но заметно сутул. Щеки впалые, волосы, как мне показалось, нечесаные. На богатыря он походил мало. Понял, что «богатырь» — это игра, розыгрыш, на которые, как я убедился потом, он был большой мастер.
После первой лекции, во время перерыва, Глазков, подойдя ко мне, счел нужным уточнить, что он не просто поэт, а поэт гениальный. И уточнил стихами:
Я не гегельянец,
А я генильянец,
Николай-чудотворец,
Император страниц.