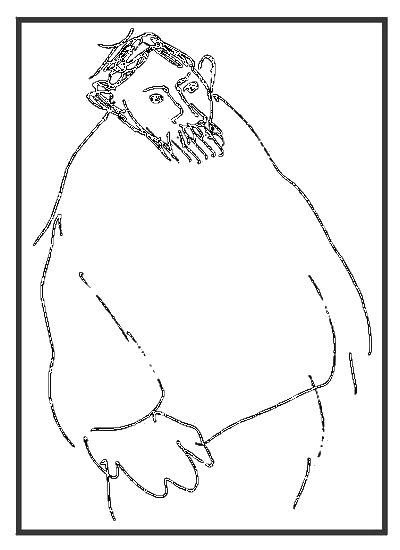Кого здесь только не было! За одним столиком сидел Орджоникидзе, два царских генерала и какая-то барынька. Коля оценил комичность ситуации: рот расплылся в улыбке, а брови быстро-быстро заходили вверх-вниз…
Картину действительно вскоре закрыли, усмотрев в ней какую-то аллюзию. В один из летних дней 1973 года вся съемочная группа собралась на похороны картины (что это было так, знали не все). Перед тем как ее смоют, Вера Павловна Строева решила сделать просмотр уже на две трети отснятого материала. С болью в сердце мы прощались с мгновениями нашей жизни, запечатленными на кинопленке. А когда на экране появился в роли Достоевского Коля и произнес свой монолог перед провокатором Костомаровым, у многих сидевших в зале на щеках блестели слезы. Впечатление от игры Глазкова было ошеломляющее. Мертвенно-бледный, статичный, он как бы воплощал в себе самого Достоевского и его литературного героя одновременно.
Шли годы. Укреплялось переводческое дело. В литературу приходили люди со знанием иностранных языков. Все реже можно было получить работу по подстрочникам. Ожидая заказы, Коля частенько сидел без работы. Счастливый случай свел его с якутами. К скуластому Глазкову стали ходить люди с лицами из обожженной глины. Занятость его резко поднялась. Начались частые вояжи в республику, пошли стихи на якутскую тему. В Коле проснулся турист и пловец.
Летом 1969 года я поступил на штатную работу в издательство «Физкультура и спорт». Спустя некоторое время я вспомнил о Коле и предложил ему подумать о сотрудничестве. Сначала Коле захотелось написать очерк о своем довоенном тренере по боксу — знаменитом боксере Николае Штейне, погибшем во время войны. Но затем, поскольку я вел серию стихотворных и прозаических книг для детей, Коля написал рассказ о русском мальчике, который полетел к своему отцу-геологу в Якутию. Там якутские ровесники научили его якутской народной борьбе. Принцип этой борьбы был прямо противоположным классической: один из борющихся должен был лечь на лопатки, а другой должен был сдвинуть его с места. В этом было что-то символичное для Глазкова: победитель, лежащий на лопатках.
По неизвестной причине книгу Глазкова на стадии верстки остановила курирующая издательство чиновница Госкомиздата Октябрина Н. В бешенстве, минуя все инстанции, бросился я к ней в Госкомиздат за разъяснением. Не услышав ничего вразумительного, я пошел к главному редактору главной редакции художественной литературы Сергею Павловичу Емельянникову, который хорошо знал и ценил Глазкова.
— Поздно, — сказал Сергей Павлович. — Я вчера сдал дела и завтра улетаю на три года в заграничную командировку.
Николай Глазков. Рисунок В. Бурича
…Все чаще наши встречи с Колей происходили не за дружеским столом, а возле писательской поликлиники, во дворе которой я жил. Коля тяжело болел. Было ли тому причиной моржевание и холодные ванны — кто знает?
Однажды, уже не будучи в силах выходить из дому, Коля пригласил Музу Павлову, Василия Абгаровича Катаняна и меня послушать свое новое сочинение — пьесу-сказку в стихах. Мы поехали к нему уже на новую квартиру, не совсем точно себе представляя, где находится это Аминьевское шоссе. Через полчаса мы увидели стандартный дом, стандартный подъезд, стандартную квартиру, где даже характерная арбатская мебель из-за небольших габаритов комнат выглядела иначе.
Нездоровая полнота сделала Колю неузнаваемым. Потухший взгляд, в котором можно было прочитать немой вопрос: «Что со мной?»… Мы прошли в Колин кабинет. Читать пьесу Коля попросил Музу…
Это была последняя встреча с Николаем Глазковым. После его кончины я написал стихотворение «Антигерой» и посвятил его Коле:
Антигерой
Эпоха
прошла по нему
как танк по тазу
выдавив наизнанку
Он смог не построить то
чего не мог не построить
Он смог не написать того
что выстрадал
бессонными ночами
Он сжег себя
оставив у дороги
своего пятимесячного сына
Это над ним курганом
воронка от снаряда
в его честь
опоки монументов
Это ему наградой
обратная сторона
вашей медали
Сергей Поликарпов
Почетный гражданин Поэтограда
Редкая судьба — при жизни стать легендой. Николай Глазков был как раз из числа тех немногих поэтов, имя которых всегда было окружено облаком-ореолом загадочности и неподдельного интереса к ним не только обширного круга знакомых, но и куда более многочисленной окололитературной среды, которая всегда была, есть и будет и любопытство которой находится в десятикратном соотношении с числом возможных слухов о ком-либо, как правило, ею же самой и рождаемых.
А личность эта была действительно незаурядной, через всю жизнь пронесшей «первородную» непосредственность восприятия мира. Осмысливая самобытность стиля Глазкова, убеждаешься в справедливости изреченного уже до нас: стиль — это человек. Ничто, кроме стихов, поскольку автор всегда тяготел в них к предельному самораскрытию своего внутреннего мира, не высветлит со всей очевидностью истинный облик этого самобытного поэта, развеивая все, что наводит какую-либо «тень на плетень», то бишь досужие мысли-домыслы, связанные с его жизнью и творчеством. Пусть именно стихи — «свидетели живые» — говорят об их авторе. А стихов разных им написано много: и серьезных, и шутливых, и философских, и детских, и исторических, и сатирических, — словом, как назвал сам творец их, Поэтоград, огромный поэтический город, в котором мирно уживаются рядом постройки высокого общественного звучания с «частными» строениями, вроде дружеских посланий и автопародий.
Вот одна из таковых — «Предсказание», запечатлевшее некоторые его раздумья о роли своей поэзии в современном ему литературном процессе и о своем месте в нем:
Через пять или шесть веков
Грядущий ученый нахал
Объявит, будто писатель Глазков
На свете не существовал.
— Стихов не писал сей человек,
Заявит ученый тот.
Но кто-нибудь из его коллег
Докажет наоборот.
Такому я руку пожать готов,
Такого мы признаем.
И станут спорить семьсот городов
О месторожденье моем!
Не берусь предрекать с такою же обезоруживающей смелостью, как именно «грядущий ученый нахал» отзовется о нынешнем литературном времени и о ком-либо конкретно из его представителей. И отзовется ли об этом кто-нибудь вообще в столь далеком будущем — «через пять или шесть веков», куда устремлялся взгляд поэта?..
С уверенностью могу утверждать лишь то, что самого себя внутри своего времени, в органической связи с ним Глазков никогда не терял из вида. Он говорил о себе с ошеломляющею непосредственностью:
Я лучше, чем Наполеон и Цезарь,
И эту истину признать пора:
Я никого не убивал, не резал,
Напротив, резали меня редактора!