— Ты где был, родимый? — спросила его мама, сидевшая, по русскому обычаю, у самовара и разливавшая чай гостям в голубые фарфоровые чашки.
— Я спал и сон видел! — громко выкрикнул Николушка, садясь на свой высокий детский стульчик.
— О чём сон-то?- улыбаясь задал вопрос отец, принимая от жены чашку с чаем.
— О царе Ироде, о том, как его убили гвардейцы, табакеркой врезали, а потом шарфом придушили. И поделом ему, не будет, гад, младенцев убивать.
Рука отца вздрогнула, расплёскивая чай на блюдечко и на белую камчатную скатерть; он внимательно посмотрел на сына, а тот уже обращался деловито к матери:
— Мама, мне побольше клубничного варенья, оно вкусное!
Николай Николаевич переглянулся с Иван Матвеичем. Гость изумлённо и даже чуть испуганно покачал головой.
— Да, кстати, слышали новость? — громко проговорил Иван Матвеевич, переводя разговор в другое русло, — наш родственник Николай Саблуков сейчас охраняет императрицу-мать, Марию Фёдоровну, но в недавней нашей беседе признался мне, что хочет в ближайшее время оставить службу и уехать вообще из страны.
— Куда же он собрался? — спросила Александра Михайловна, ставя перед Николушкой розетку, полную его любимого варенья.
— Кажется, в Англию, — ответил небрежно дипломат. — А другой твой двоюродный брат, — обратился он к Николаю Николаевичу, — Александр Волков, поручик Преображенского полка, пошёл в гору: получил чин капитана и флигель-адъютанта. Он в ту роковую ночь был со своими солдатами во внутренних покоях императрицы Марии Фёдоровны. Она его теперь особо выделяет и покровительствует ему.
Отец Николушки улыбнулся, вспомнил свой разговор в Летнем саду с двоюродными братьями. «Слава богу, что мой совет пошёл обоим на пользу», — подумал, вдыхая тонкий аромат китайского чая, который пил из полупрозрачной фарфоровой чашки.
А на другом конце Европы в дворце Тюильри в Париже в этот же самый час первый консул обсуждал с министром иностранных дел внешнеполитическую ситуацию.
— Теперь эти подлые английские лавочники могут торжествовать, чёрт их всех побери. Они промахнулись по мне на улице Сан-Никез, но попали в Петербурге. Мерзавцы сорвали такой грандиозный план! Ведь Индия была у нас в руках.
— Лучше синица в руках, чем журавль в небе, — проговорил наставительно Талейран, поправляя густые светло-русые волосы. — Теперь нам нужно думать о скорейшем мире с этими лавочниками. Причём, как мне подсказывает чутьё, мы можем его подписать на выгодных прежде всего нам условиях. Мои агенты из Англии доносят, что новый кабинет Аддингтона желает перемирия с нами, как манны небесной. И знаете кого прочат нам в послы? Лорда Уитворта.
— Вот сволочи! — зарычал Наполеон. — Они что, хотят и мне устроить апоплексический удар? Не выйдет! Я всё-таки своего добьюсь, поставлю Европу на колени, доберусь до этой русской лисицы Александра и не мытьём, так катаньем заставлю его вступить, как его покойного отца, в союз со мной, и мы всё-таки пойдём с казаками в поход на Индию. Ради этого я готов даже сначала завоевать Петербург или Москву.
— Этого человека ничего не исправит, — пробормотал себе под нос, брезгливо морщась, Талейран. — На этой бредовой идее он и сломает себе шею.
— Чего это вы там ворчите, Талейран? — спросил министра, подозрительно прищурившись, Наполеон.
— Да так, нога что-то ноет — наверно, к непогоде, Ваше Величество, — любезно улыбаясь, ответил старая лиса.
— Ваше Величество? — удивлённо взглянул на него первый консул. — Вы что, произвели меня в императоры?
— Ну, за этим дело не станет, — ответил с поклоном коварный дипломат, — благодарное Отечество скоро само поднесёт вам этот титул. А я тем временем пойду составлять послание английскому правительству с предложением мира. Надеюсь, завтра я ещё вас застану в Тюильри, чтобы согласовать все формулировки наших предложений англичанам, вы, надеюсь, не успеете отправиться в ваш Индийский поход?
Попрощавшись, министр, хромая, заковылял к двери.
— Вот змея, — теперь уже Наполеон ворчал себе под нос, — но я и его заставлю поверить в реальность всех моих планов. Для этого я просто их осуществлю!
Великий полководец был верен себе. Миллионам и миллионам людей придётся пожертвовать своим счастьем, а многим и жизнями, добиваясь их осуществления или противоборствуя этим планам. И среди них будет и Николенька Муравьёв, который через десять лет волею судьбы окажется втянутым в эти водовороты всемирно-исторической схватки за обладание контроля над миром, длившейся весь девятнадцатый век и приведшей в конце концов к чудовищным катаклизмам уже века двадцатого.
Часть вторая
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 года
ГЛАВА 1
1
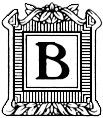
морозное раннее мартовское утро, когда на улицах и площадях Петербурга всё ещё тускло горели, поскрипывая и покачиваясь на невысоких столбах, заправленные конопляным маслом фонари, слабо освещавшие желтовато-жидким светом мостовые, припорошённые ещё не вытоптанным снежком, Кушелев дом, вот уже больше полувека стоящий на Дворцовой площади напротив Зимнего дворца, ещё спал чутким старческим сном, темнея чёрными глазницами узких и высоких окон. После того как восемь лет назад сгорел помещавшийся здесь Немецкий театр, дом был перестроен и перешёл в ведение Свиты Его Величества, или Главного штаба. И теперь вместо актёров и актрис в напудренных париках по его длинным полутёмным коридорам гулко шагают в подкованных сапогах офицеры-квартирмейстеры и колонновожатые. В большой чертёжной здесь создаются подробнейшие карты Российской империи, за которые готовы отвалить изрядные мешочки с золотом агенты Наполеона, обитающие, кстати, неподалёку на Дворцовой набережной в просторном здании французского посольства. Но не так просто проникнуть в этот дом, где царствует князь Пётр Михайлович Волконский, главный квартирмейстер русской армии. У парадного подъезда стоит часовой. Вот и сейчас он мерным шагом проходит перед длинным фасадом здания. Штык на его ружье, закинутом на плечо, тускло поблескивает, когда солдат вступает в круг жёлтого фонарного света.
А в доме тишина. Только изредка поскрипывают старые деревянные перекрытия да в офицерских квартирах на верхних этажах потрескивают бог знает как сюда попавшие сверчки, устроившиеся, по своему обыкновению, в щёлках поближе к печкам, выложенным голубой кафельной плиткой. В одной из этих казённых квартир и открыл глаза ранним мартовским утром молоденький прапорщик Николай Муравьёв. Было ещё темно. Прямоугольник окна чернел, не закрытый гардинами, и только призрачные тени иногда виделись в нём. Это отражались от свежего снега блики фонарей на площади. Николай ещё не проснулся до конца, и, находясь в этом странном состоянии на грани сна и бодрствования, он вдруг почувствовал себя маленьким мальчиком и увидел, даже скорее ощутил, как над ним склоняется мать и гладит его по головке, приговаривая: «Вставай, Николушка, вставай, засоня». Её мягкие белокурые кудри касаются его щёк, и слышится запах духов, которыми душилась только мама. Вот уже три года, как её нет в живых, а Николушка никак не привыкнет к этому. Он вспоминает акацию над могилой мамы в Девичьем монастыре в Москве, и слёзы наворачиваются на глаза. Хотя юноша и считает себя взрослым, но ведь ему только семнадцать лет, и так тоскливо в этом холодном, казённом Петербурге, и хочется домой в Москву, в тёплый дом на Большой Дмитровке, где живёт его дружная семья. Правда, без мамы это только разбитые осколки семьи, их никак не может склеить отец, Николай Николаевич Муравьёв, подполковник в отставке, радушный, весёлый, говорливый, талантливый, но и безалаберный, и вспыльчивый, и немного непутёвый, любящий хорошо пожить, — в общем, типичный московский барин, хотя и родился и вырос в Петербурге, но пришедшийся ко двору именно в хлебосольной, широкой, такой же безалаберной и непутёвой Москве, являющейся полной противоположностью деловой, чопорной, затянутой в мундир столицы на Неве.