Главными памятниками средневизантийской мозаичной живописи, техника которой отличалась особенной мелкостью стеклянных кубиков, нужно признать обширные изображения в главной церкви монастыря св. Луки в Стириде, и в церкви Дафнийского монастыря эти мозаики, исполненные позже построения самих церквей (см., например, рис. 62 и 63), несомненно принадлежат времени Комнинов, вероятно началу XII столетия. В обеих церквах в раковине главной абсиды изображена Богоматерь, с середины купола взирает вниз Христос Пантократор, на четырех парусах представлены события юности Спасителя, все стены покрыты многочисленными композициями на библейские сюжеты и образами святых. При ближайшем рассмотрении в мозаиках Дафни можно, однако, заметить немало отличий от мозаик монастыря св. Луки — отличий, имеющих значение для дальнейшего развития. В середине купола отсутствуют ангелы, окружающие Пантократора в мозаике монастыря св. Луки и других церквей; на «парусах» Сретение Господне заменено Преображением. Много нового в распределении мозаик по остальным частям храма. Здесь впервые появляется картина Успения Богородицы на том месте, которое потом всегда отводила ей позднейшая византийская церковная живопись, а именно на внутренней, западной стене церкви (не считая нартекса). Язык форм в мозаиках Дафни много живее, чем в церкви св. Луки. В обеих церквах Христос, пригвожденный к кресту четырьмя гвоздями, склоняет голову вправо; Его очи еще отверсты, но на дафнийской мозаике Его руки изображены вытянувшимися под тяжестью тела. В композиции «Сошествие Христа во ад» (заменившей в византийской иконографии «Воскресение») в дафнийской церкви Спаситель, попирая ногами сатану, быстро направляется к Адаму и поднимает его левой рукой (рис. 121), тогда как в той же композиции в церкви св. Луки Он влечет Адама за собой, полуотвернувшись от него.
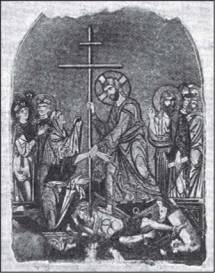
Рис. 121. Сошествие Христа во ад. Мозаика монастыря Дафни. По Милле
В мозаиках Дафни пропорции тела вообще правильны; черные контуры нередко как бы пропадают в тех местах, где встречаются резко контрастирующие между собой тона; колорит светлее, разнообразнее и жизненнее, чем в церкви св. Луки. Однако при всей роскоши и эффектности мозаик Дафни, они уже очень далеки от свободы, которая была свойственна византийскому искусству в начале македонской эпохи.
Если чисто византийские произведения этого рода служили образцами для византийского искусства Италии, то, с другой стороны, мозаики, исполненные греческими мастерами в Святой Земле во время крестовых походов, обнаруживают обратное влияние западного искусства, особенно ясно выказывающееся в остатках мозаик 1169 г. в церкви Рождества Христова (см. выше, кн. 1, II, 1) в Вифлееме. Здесь были изображены родословие Христа (погрудные изображения Его предков) и церковные соборы (изображения церковных зданий). Между окнами продольного корпуса изображены колоссальные фигуры ангелов; как верхние, так и нижние стенные картины были опоясаны фризами из лиственных венков. От всей совокупности этих мозаик веет западным духом.
Некоторые из произведений станковой живописи, сохранившихся в афонских монастырях и западных коллекциях и некогда украшавших стены греческих церквей, восходят, быть может, к XII столетию. Легче, чем эти произведения, поддаются определению современные им византийские миниатюры.
Различного рода книги духовного содержания, бывшие в ходу в предшествующую эпоху (см. выше, кн. 2, II, 2), представляли собой и теперь арену художественной деятельности миниатюристов. Но отдельные сюжеты приняли уже типичную форму, в которую они и продолжали облекаться в позднейших византийских мозаиках и миниатюрах. Золотые фоны стали единственно употребительными. Роскошные орнаменты, составленные из схематизированных античных элементов и новых, цветочных узоров, часто родственных арабо-персидским, заполняли собой более широкие, чем прежде, поля рукописей. В инициалах, никогда не достигавших таких размеров, как на Западе, наряду с отяжелевшими лиственными мотивами преобладали грациозные орнаменты, составленные из животных и человеческих форм. Человеческие фигуры сильно вытягивались в длину, движения теряли живость и делались вынужденными; иногда и одежды изображались тяжело, без складок или с тугими, негнущимися складками; лицам придавались безжизненные, сморщенные, старческие черты, характерные для поздневизантийской миниатюры. В середине XI столетия колорит часто еще светел и ясен; в нем розовый и лазоревый тона прекрасно гармонируют с золотом; но в течение XII столетия краски становятся более темными и тусклыми. Для моделировки тела вместо зеленоватых теней употребляются оливковые и коричневые. При всем том многие рукописи эпохи Комнинов — настоящие шедевры.
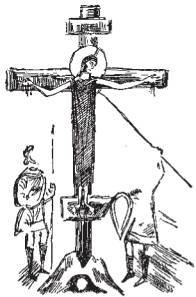
Рис. 122. Распятие. Миниатюра византийской Псалтыри. По Тикканену
В области иллюстрирования Псалтырей, в выполненных пером миниатюрах «народного» стиля (см. рис. 64–66) разница между формами македонской и комнинской эпох сразу обнаружится, если мы сравним, по воспроизведениям Тикканена, фигуры хлудовской Псалтыри (см. рис. 64) с длинными, окоченелыми, малоголовыми фигурами Псалтыри Британского музея, написанной в 1066 г.
Подобные формы можно видеть, например, в миниатюре, изображающей Распятие (рис. 122).
К наиболее известным памятникам комнинской придворной живописи принадлежат хранящиеся в Парижской Национальной библиотеке гомилии Иоанна Златоуста, написанные для императора Никифора Вотониата (1078–1081), с бесформенными фигурами, тугими складками одежд и лишенными выражения лицами, тогда как Мартиролог Британского музея XII столетия отличается помимо своих тощих фигур и жестких драпировок еще темным колоритом, свойственным этому регрессировавшему веку.
Главными произведениями прикладной живописи и в это время были византийские шелковые вышивки. К переходному времени (конец XI — начало XII столетия) относится хранящаяся в ризнице Римского собора св. Петра великолепная одежда, ошибочно называемая «далматикой Карла Великого». На ее передней стороне изображен в благородных формах Спаситель, сидящий на радуге. Вышитые золотом и серебром изображения эффектно выделяются на голубом шелковом фоне.
Такие же формы, как и в миниатюрах, но, быть может, большее в своем роде совершенство техники мы находим в лучших произведениях рельефной пластики эпохи Комнинов. Среди них важнейшую роль играют по-прежнему изделия из слоновой кости. Как длинны фигуры, размеренны телодвижения, тяжелы одежды на прекрасной пластинке Парижского Кабинета медалей, изображающей благословляющего Спасителя, стоящего на возвышении между императором Романом Диогеном (1068–1071) и его женой! Как экспрессивны полуфигуры Спасителя, Богоматери и святых на костяной крышке византийского деревянного ларца, принадлежащего XII в. и хранящегося во Флорентийском Национальном музее! Всемирной славой пользовались еще и в то время византийские литые бронзовые изделия, как о том свидетельствуют некоторые бронзовые двери итальянских церквей, константинопольское происхождение которых удостоверено документами или надписями. Их фигурные украшения большей частью походят по своей технике на ньелли: врезанный рисунок выложен золотыми и серебряными проволочками; руки, головы и ноги образованы пластинками благородного металла и отчасти эмалированы. Четыре больших панно средних дверей собора в Амальфи (1066), двери церкви Сант-Анджело у подножия Монте-Гаргано (1076), а также двери соборов в Трое, Атрани (1087) и Салерно (1099) — великолепные образцы этой византийской техники. В Риме лучшим произведением в этом роде были двери старой базилики Сан-Паоло фуори ле Мура, изготовленные в Константинополе Ставракием в 1070 г. и украшенные изображениями 54 сцен. Их остатки хранятся в ризнице этой базилики. И здесь вытянутость фигур в длину характерна для конца XI столетия.