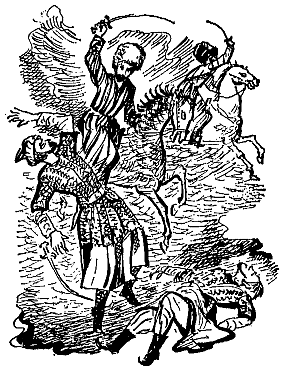
Поэтому все с таким напряженным вниманием следили за дележом пленных персов. А тому, кто делил, выпала нелегкая задача. Надо было быстро прикинуть, сколько то или иное племя взяло в плен врагов, сколько порубило их в боях, сколько своих братьев потеряло, сколько вдов, сирот теперь осталось там, в синих песках, в глиняных кибитках, за дырявою кошмой. Так что белобородый аксакал, облеченный столь высоким доверием народа, трудился действительно в поте лица. И делил, по-видимому, справедливо: во всяком случае Блоквил, оказавшись поблизости, особого недовольства не увидел. Были, конечно, мелкие стычки, азартные споры; получая выделенных пленников, представитель племени придирчиво оглядывал их, сравнивал с соседней группой, порой ему казалось, что у него похуже, — более худы, угрюмы, слабосильны, у соседнего племени не в пример лучше. Словом, шум, крики, споры не прекращались целый день. Не обошлось, конечно, и без комического, уж так, видно, устроена жизнь — где слезы, там и смех. То два пленника сцепились, стали драться: один у другого, оказывается, украл несколько мелких монет. Когда ж их со смехом разняли, выяснилось, что хозяин монет сам их отнял у бедного туркмена в одном ауле.
Тут на площади появилась странная пара: низкорослый, тщедушный туркмен вел на веревке за собой огромного перса. Конечно, пленников в основном делили по справедливости выборные — уважаемые всеми люди. Но были и такие, как этот маленький туркмен, что где-то сами ухватили пленного и вот так тащили, как барана, на веревке. Если б не такая разница в росте и силе, пожалуй, никто в этот суматошный день и внимания не обратил бы. А тут еще маленький туркмен вдруг закричал тонким голоском:
— Люди! Пусть каждый забирает себе того раба, которого он сам поймал! Мне, например, никого не нужно, кроме этого, — и маленький туркмен, сильно дернув за веревку, чуть сдвинул с места великана перса, — если ж я и продам его когда-то, то возьму за него цену пяти рабов, не меньше! А если уж заставлю работать, то он за десятерых у меня будет пахать! Пусть каждый заберет себе своего раба, о люди!
Услышав эти слова, старик делитель засмеялся. Улыбнулся и Блоквил. Хотя ему не до улыбок было. Он узнал высокого пленника — тот был среди телохранителей принца — и пожалел его, ведь судьбы их теперь похожи были: плен, рабский рынок, неизвестность… А улыбнулся оттого, что вот такой огромный, такой черноусый перс вынужден теперь подчиняться туркмену, который едва до пояса ему достает.
— Скажи, сынок, — обратился старик делитель к маленькому туркмену, — ты сам поймал этого гиганта или вы ловили всем аулом?
— Яшули! — в благородном негодовании воздел к небу руки маленький туркмен. — Обижаешь, обижаешь меня! Да что такое для меня один перс?! Хотя бы и этот! — и он снова резко дернул за веревку. — Да я двадцать нечестивцев голов лишил… вот этой самой саблей, а разве сосчитаешь тех, кого я, за ноги подцепив, сбросил с седел в пыль и потом затоптал своим конем?! А еще пятерых— лично сам я, как этого, в плен взял, да ничуть не меньше ростом, чем этот, а может быть, даже и… — он оглянулся на пленника, прищурился оценивающе, — а может быть, даже будут и побольше этого!
— И где ж они? — кто-то крикнул из толпы.
— Где? Сынок, я подарил их таким же, как ты, которые в жизни не видели ничего, кроме Горячего чурека. Где ж им поймать хотя бы одного перса! Ведь говорят: со свадьбы хотя бы горстку поиметь! Теперь хотят — пусть продадут, не захотят — работать пусть заставят. Я-то своего заставлю! — и словно в подтверждение серьезности своих слов он помахал плеточкой, маленькою, как и сам он, перед лицом огромного пленника. — Быстрее иди, тебе говорят!
Но тот неожиданно уперся, побагровел, усы зашевелились, засверкали глаза, и он — ни с места! Напрасно Тянул его изо всех сил маленький туркмен. Вокруг раздался смех. И маленький туркмен тогда хлестнул плеточкой перса по плечу и грозно крикнул: «Ну!» Но пленник тут рванулся, лопнула веревка, и огромные ручищи потянулись к маленькому туркмену. Хвастунишка тут же юркнул в толпу, над ним смеялись от души. А пленник, глядя ему вслед, со вздохом сказал: «Меня не ты взял в плен, а плач твоих детей!» — и, потирая затекшие руки, не спеша направился к ближайшей группе таких же пленных, как и он.
Увидев, что опасность миновала, маленький туркмен выбрался из толпы и, словно ничего не случилось, стал расхаживать степенно, заложив руки за спину, Тут увидел он Блоквила.
— Ба! — обрадовался он тому, что можно опять потешить честной народ. — Это еще что за птица? Вроде б не перс.
— Это тоже из тех, кого ты пленил! — засмеялись из толпы.
— Эх, брат, — притворно вздохнул маленький туркмен, — на таких облезлых да тощих, как борзая, я б и не польстился, пальцем бы не шевельнул, чтоб в плен их брать.
— Ну, конечно, — из толпы кричали, — ты ведь в плен берешь только таких силачей, как этот, который только что порвал твои веревки!
— Да просто веревки гнилые были, — сказал маленький туркмен, приближаясь к Блоквилу и старательно разглядывая его сверху донизу.
Французу он не понравился — было в нем что-то и трусливое, и жестокое одновременно. По-видимому, как большинство низкорослых людей, был он очень обидчив. Когда пленник порвал веревки, так перепугал, так унизил его, сердце до сих пор клокотало от обиды. Хотя он и улыбался. И лишь багровые пятна на щеках выдавали это. И вот, прищурившись, теперь смотрел он на француза, прикидывая, как же все-таки и толпу повеселить, и за обиду расквитаться. Все это понимал и Блоквил и ожидал какой-нибудь неприятности. Но маленький туркмен пока еще и сам не знал, что бы ему такое придумать, и просто для начала взял и вылупил глаза, скривил губы и высокомерно сморщил маленький нос. И в таком виде прошелся на носочках перед французом. Тот, чтобы не рассмеяться, отвернулся. Тогда маленький туркмен вплотную подошел, подбоченился и снизу вверх стал разглядывать высокого пленника. Блоквил, задравши голову, уставился в прозрачное небо — только б не смотреть на маленького смешного человечка перед ним. А тот вдруг указательным пальцем ткнул снизу в подбородок французу. Словно решил помочь задраться голове еще повыше. Но палец, сорвавшись, задел больно нос, царапнув ноздрю. В носу резко защипало, слезы брызнули из глаз, и, потеряв самообладание, Блоквил пнул маленького туркмена в живот. Тот сразу упал, закричал пронзительно, засучил в воздухе ножками. Ну, а дальше ничего не помнит Блоквил: чем-то тяжелым ударили сзади, и он повалился ничком, не забыв прикрыть лицо. Он тут же потерял сознание от ударов, но не совсем, а чувствовал, но как бы издали, и даже отмечал, когда били палками, когда плетью, а когда просто ногами. И еще — все время ждал: когда же это кончится.
Тут надо заметить, что действия, и верные, и неверные, к которым свелся этот жестокий эпизод, в затуманенном сознании француза каким-то непостижимым образом осветили всю эту военную экспедицию, вернее, авантюру, в которой он так легкомысленно принял участие, мечтая разбогатеть. Собственное его участие было таким же верным и неверным, как этот страшный эпизод, и степень собственной вины теперь все больше прояснялась. Через эти побои, которые надо терпеть. И вот, пока били, было больно, очень больно. Но было и отрадно за то, что эта боль как искупление и что от этих жестоких побоев вина постепенно проходит и вот уже почти совсем прошла… так долго бьют они его… Вот уже и терпеть сил больше нет, еще один удар палкой — и не выдержит позвоночник или случится еще что-то более ужасное. А тут как раз и остановились. Блоквил точно помнит: именно в то мгновение, когда он готов был закричать: «Хватит, пожалейте, люди ж вы все-таки!» Тут перестали бить, и он действительно потерял сознание.
Когда же пришел в себя, застонал, пробуя пошевелиться, чуть приоткрыл глаза и увидел вечер, поредевшие ряды пленников. Солнце садилось, спала озабоченная суета вокруг, только Блоквил как лежал на площади в пыли, так и лежит. Губы распухли, кровь запеклась, Блоквил прохрипел: «Аб!»[103]. Никто не ответил ему, то не было жестокостью — он понимал, — вечер был тих, и у людей на площади лица были хоть и озабоченные, но, в общем-то, умиротворенные, и это ласковое равнодушие мира поразило больше всего. И горько стало оттого, что это равнодушие было созвучным его собственному равнодушию, — все справедливо. Но он избит до полусмерти, от жажды умирает: «Аб!»