За неделю до смерти дофина скончался лечивший его врач, известный хирург Десо. Его племянница мадам Тувенен через полвека, в 1845 г., показала под присягой, что ее тетка, вдова хирурга, сообщила следующее об обстоятельствах смерти мужа. Десо посетил Тампль и убедился, что ребенок, который там содержался, не дофин, хорошо известный ему по прежним визитам. Своим открытием он поделился с несколькими знакомыми депутатами. Его пригласили на званый обед, после которого он, вернувшись домой, почувствовал себя больным и вскоре скончался. Этот рассказ подтвердил в Лондоне ученик Десо доктор Аббейе, добавивший, что он опасался за свою жизнь и поэтому бежал из Франции. Правда, это свидетельства сомнительного характера. Исследователи установили, что в госпитале, где работал хирург, вспыхнула эпидемия, унесшая жизнь не только Десо (кстати, он скончался не 1 июня, а 20 мая), но и еще двоих его коллег, которые не видели дофина. Есть и другие показания. Княгиня Тюрсель, воспитательница дофина и его сестры, держала у себя в гостиной небольшой портрет бывшего воспитанника. После его смерти к мадам Тюрсель пришли два тюремщика, чтобы сообщить о кончине мальчика. Посмотрев на портрет, оба они сказали княгине, что умерший похож на изображенного на портрете. Это подтвердил и священник, присутствовавший при похоронах.
Безусловно, в интересах термидорианского правительства было утверждать, что дофин жив и по-прежнему находится в его руках или что он умер, но никак не признавать, что он был увезен из Тампля. Такое положение явно не устраивало бы и графа Парижского, поспешившего после известия о смерти дофина объявить себя королем Людовиком XVIII. Вернувшись в 1814 г. во Францию после падения Наполеона, король дал ясно понять, что не потерпит слухов, которые могли бы заставить усомниться в смерти дофина в 1795 г. Такая позиция не обязательно свидетельствовала, что втайне король не верил сведениям о смерти своего племянника в Тампле (и что поэтому не проводились заупокойные службы в день его предполагаемой кончины и т. д.). Вполне возможно, имелась в виду желательность пресекать нежелательные слухи, могущие поощрить различных авантюристов выдавать себя за дофина. Это, видимо, не учел бывший депутат Конвента Арман из департамента Мёз, видевший дофина за несколько месяцев до его кончины. Позднее он рассказывал, что ребенок послушно выполнял отдаваемые ему приказания, но от него нельзя было добиться ни единого слова. Создавалось впечатление, что он немой. Из этого рассказа было нетрудно прийти к выводу, что умерший в Тампле ребенок не был дофином. Установился режим Реставрации, и Арман имел неосторожность поделиться своими воспоминаниями в печати, после чего его, назначенного было префектом департамента Верхние Альпы, сместили с этого высокого административного поста и дали умереть в нищете. В 1814 г. была опубликована первая книга о дофине «Исторические записки о Людовике XVII». Ее автор, роялист Экар, утаил имевшийся в его распоряжении важный документ — заметки, сделанные вскоре после кончины ребенка в Тампле весьма осведомленным полицейским чиновником Сенаром, являвшимся по совместительству шпионом барона Батца. В этой бумаге прямо указывалось, что умерший мальчик не дофин. Стоит добавить, что через несколько месяцев после ее составления, в марте 1796 г., сам Сенар также скончался. (Его заметки были много позднее разысканы одним историком.)
Вдова «воспитателя» Симона Мария-Жанна (сам он был казнен в числе других робеспьеристов в термидоре) была тогда же посажена в тюрьму, но менее чем через месяц выпущена на волю. Возможно, что, оказавшись на свободе, она что-то неосторожно выболтала. Весной 1796 г. «вдову Симон» как будто бы по ее просьбе водворили в инвалидный приют, где она оставалась в течение более двадцати лет, вплоть до смерти в июне 1819. В годы Реставрации Мария-Жанна была поставлена под надзор полиции. Судя по полицейским отчетам, она находилась в здравом уме и твердой памяти. При встречах с разными лицами Мария-Жанна неоднократно говорила, что дофин был увезен из Тампля и подменен каким-то смертельно больным ребенком. Это же она повторила, исповедуясь перед смертью. В ее рассказах, хотя она ссылалась на лиц, из первых рук знакомых с положением дел в Тампле в 1794 и 1795 годах, имеются и явно неправдоподобные сведения. В 1816 г. полиция Реставрации под угрозой сурового наказания предписала Марии-Жанне прекратить всякие разговоры о дофине.
Этим свидетельствам можно противопоставить другие, особенно чиновников Коммуны Герена и Дамона, которые подтвердили — один в 1795, а другой в 1817 г., что ребенок, которого они знали ранее и посетили незадолго до его смерти, был дофином. Конечно, и в 1795, и в 1817 г. имелись влиятельные лица, заинтересованные, чтобы Герен и Дамон дали именно такие показания. Выяснилось, что протокол о смерти дофина был составлен в соответствии с требовавшимися формальностями и точно такие же неясности, которые в нем обнаружились, встречаются и в других заключениях о смерти. Правда, не все. Заключения о смерти в соответствии с действовавшим законодательством должны были составляться в присутствии родственников покойника. В Тампле содержалась сестра дофина, но ее не привели, чтобы она подтвердила личность умершего.
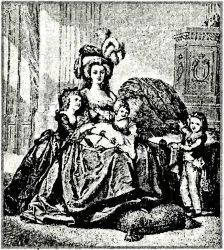
Важными многие историки считают показания двух тюремных сторожей, Гомена и Лана, приставленных к дофину. Оба дожили до глубокой старости и в годы Реставрации и сменившей ее Июльской монархии дали показания, связанные с болезнью и смертью дофина. Но у обоих бывших тюремщиков были основания, чтобы в случае, если дофина увезли из Тампля, скрывать правду. Томен, например, получал щедрую пенсию от Людовика XVIII, герцогиня Ангулемская назначила его управляющим одним из своих имений. При сравнении с подлинными документами в показаниях Гомена и Лана выявляются не только многочисленные неточности, которые еще можно объяснить забывчивостью за давностью времени, но и сознательная ложь
Мифология заговоров
Если заговор с целью организации побега дофина был действительно осуществлен в определенный отрезок времени, первым подозреваемым становится лицо, которому в те месяцы подчинялась охрана Тампля. Его возможные связи с заговорщиками, естественно, поэтому привлекали особое внимание тех исследователей, которые полагали, что дофина увезли именно в указанное время. Чтобы отыскать истину, нельзя принимать на веру сложившуюся репутацию политических деятелей, которым последовательно была подведомственна тюремная администрация, а нужно воспользоваться советом одного из крупнейших историков Французской революции А. Матьеза, писавшего: «Ничто нельзя до изучения считать абсурдным в ту страшную эпоху, столь таинственную в стольких ее гранях!»
Зимой 1793–1794 гг. лицами, которым фактически подчинялись тюремные чиновники, надзиратели и сторожа, являлись заправлявшие в Коммуне и городском управлении левые якобинцы — Эбер и (в меньшей мере) его начальник Шометт. Выше уже приходилось говорить, что Эбера как скрытого агента роялистов собирался разоблачить Шабо, но не сделал этого по совету Робеспьера, который в тот момент (ноябрь 1793 г.) не хотел ссорится с Коммуной. Шабо поспешно арестовали до того, как он мог выступить со своими разоблачениями в Конвенте. В январе 1794 г. то же обвинение прозвучало со страниц газеты К Демулена «Старый кордельер», причем в ответах Эбера проглядывало стремление не дать читателям «Отца Дюшена» возможности разобраться в том, что, собственно, инкриминировалось (пусть ложно) его автору. Эбер вместе с тем должен был признать, что встречался с роялистской шпионской графиней де Рошуар.
На процессе Шометта в Революционном трибунале 10 апреля 1794 года в числе других фигурировало обвинение в намерении «возвести маленького Капета на престол». Однако это обвинение не согласуется с письмом, которое 25 ноября Шометт направил в Комитет общественного спасения с просьбой отстранить Коммуну и принять на себя обязанности по охране королевской семьи. Через год, 7 апреля 1795 г., то есть при власти термидорианцев, в официальном правительственном органе «Монитёр» появилась корреспонденция из Швейцарии. В ней со ссылкой на слухи, ходившие среди эмигрантов, передавалось, что имелся заговор, организованный с помощью заграницы с целью освобождения королевы и ее сына. Участниками заговора являлись Батц, графиня де Рошуар и Эбер, которому было обещано два миллиона ливров и дан один миллион в виде задатка. Однако Эбера охватил страх, и он стал доносчиком. Весомость этой заметке придает то, что она была воспроизведена в мемуарах сына графини Луи Виктора Леонара Рошуара. Он был еще пятилетним ребенком во время, к которому относят заговор, и к тому же находился в эмиграции. Кроме того, мемуарист не разъясняет, основывается ли он в своем рассказе о заговоре только на этой газетной заметке или получил сведения о нем и от своей матери. Саму графиню, впрочем, вряд ли можно считать заслуживающим доверие свидетелем. Когда она бежала в Англию, британские власти заподозрили, что графиня де Рошуар является шпионкой-двойником, обвиняли ее в получении мошенническим путем у одного француза 2200 фунтов и выслали из страны. Наконец, нетрудно догадаться о причинах появления заметки в «Монитёр». Она была напечатана в условиях, когда отчаянное продовольственное положение столицы привело к массовым выступлениям парижских предместий против термидорианского Конвента. Разъяснение, что издатель «Отца Дюшена», который всего за год с небольшим до этого выдвигал требования принять меры против спекулянтов хлебом, повторявшиеся теперь населением голодавших предместий, являлся роялистом и платным иностранным шпионом, было весьма кстати. Стоит добавить, что в последующие годы до конца века «Монитёр» ни разу не упоминал имени Эбера. Но весьма вероятно и то, что редакция «Монитёра» была осведомлена о материалах, уличающих Эбера в связи с роялистским подпольем, которыми располагал Революционный трибунал. О них писала газета «Санкюлот-пожарник», издававшаяся взамен «Отца Дюшена» и ставившая целью очернить Эбера. Газета уверяла, что Эбер «стремился увезти волчат из Тампля, выпустить на свободу всех заговорщиков, содержащихся за решеткой в Париже, уничтожить членов Конвента и провозгласить королем сына Капета». Такие обвинения частично выдвигались во время процесса над издателем «Отца Дюшена», но не были опубликованы в печати. Сказанное, с одной стороны, заставляет с большой осторожностью подходить к истории, которую правительственный официоз характеризовал как весьма достоверную, но с другой, не считать, что она обязательно является вымышленной.