Упомянем в этой связи о мистификации, приобретшей скандальную известность в конце XIX века и имевшей не совсем обыкновенную историю. В 1971 г. американскому миллионеру А. Клеру удалось приобрести в Гибралтаре у ювелира Горпа золотую тиару скифского царя Сайтаферна, жившего в III в. до н. э. Корона, как гласила сделанная на ней надпись, была преподнесена ему жителями Оливии, греческой колонии на берегу Черного моря. У. Горп сообщил Клеру, вручая ему в обмен на 300 тысяч долларов драгоценную находку, что он вывез ее из России, откуда эмигрировал в 1920 г. Наиболее авторитетные эксперты в Нью-Йорке оценили ее стоимость в миллион долларов. Однако в Лувре известие об этой покупке заставило вспомнить, что там уже имеется такая тиара, купленная еще три четверти века назад в городе Одессе. Эта покупка тоже привлекала всеобщее внимание, пока 3 января 1896 г. в газете «Одесский вестник» не появилось письмо ювелира и владельца антикварного магазина И. Рухумовского, который в характерном стиле, свойственном тогда жителям этого черноморского города, поведал о самой красочной странице якобы тысячелетней истории «первой» тиары: «И эти парижане, я имею вам сказать, когда увидели моего приказчика И. Горпищенко в смокинге и цилиндре от Ковальского, а он им сказал, вы сами понимаете как, что приехал из Петербурга купить Эрмитажу тиару Сайтаферна, эти парижане сошли с ума. Они дали Горпищенко полные карманы комиссионных, и он, вы же понимаете, согласился сказать, где эта тиара есть.
Я пожелал получить франками, и они, будьте миленькими, выложили свои двести тысяч. А я вам имею сказать, клянусь небом, купил рисунок этой тиары в Очакове у Л. Гохмана за двести рублей. Кое-что мне стоило золото, но когда человек что-нибудь имеет в кармане и хочет делать шутку, то почему бы нет? Дарственную надпись оливийцев я поместил на лбу тиары. Вы сами понимаете, какой царь такое бы стерпел? И что вы после этого скажете за этих парижан?»
Разбогатевший Рухумовский появился в Париже и в газете «Фигаро» 25 марта 1903 г. снова рассказал историю появление тиары. Лувр в лице его экспертов все еще не верил, что стал жертвой мистификации. Тогда Рухумовский в присутствии свидетелей изготовил новую тиару. История с тиарой (точнее, теперь уже с двумя тиарами) поставила в глупое положение хранителей Лувра, не говоря уже о крупных издержках, которые были понесены в результате «шутки» Рухумовского. Но и это был еще не конец трагифарса.
Что же касается Горпа, то читатель наверняка уже догадался, что речь идет о том же Горпищенко, который «в смокинге и цилиндре от Ковальского» привел злополучных представителей Лувра в контору Рухумовского. Находясь в эмиграции, бывший приказчик первооткрывателя тиары по давней привычке выписывал русскую периодику и в журнале «Наука и жизнь» прочел статью профессора А. Монгайта об археологических подлогах, включая «тиару Сайтаферна», и решил, что стоит тряхнуть стариной, повторив мистификацию своего бывшего хозяина, в которой он принимал деятельное участие. К тому же в журнале была помещена цветная фотография тиары.
«Пусть никто не думает, что мне было легко, — заявил Горп на суде, к которому его привлек А. Клер. — Я переделывал корону семьдесят три раза. Потом она мне понравилась, и я подумал, что свои деньги я заработал честно. Повторить шутку Рухумовского мне не хотелось, поэтому надпись оливийцев я поместил там, где надо, на внутренней стороне ободка тиары».
Учитывая все обстоятельства, суд оправдал Горпа, а случай со «второй» тиарой показывает, что даже разоблачение мистификации иногда способствовало появлению нового подлога.
Огромное большинство фальшивок оставалось не разоблаченными, заполняя бесчисленные частные коллекции, где они вообще, как правило, не подвергались экспертизе. В 1978 г. один из ученых, работающих в лондонском Музее Виктории и Альберта, Ч. Трумэн, обнаружил тайник, в котором хранилось более тысячи рисунков, с которых потом были, очевидно, сделаны поддельные предметы из драгоценных металлов. Тайник принадлежал германскому ювелиру XIX века Рейхолду Вастерсу, который продавал свои фальшивки через венского торговца драгоценностями Фридриха Шпитцера. Где находятся ныне подделки, сфабрикованные Вастерсом по рисункам из тайника, остается неизвестным. Трумэну принадлежит заслуга в выявлении 40 фальшивок в нью-йоркском Метрополитен музее, в том числе чаша, которую считали произведением самого Бенвенуто Челлини. Порой мотивом для изготовления подлогов, как это было отчасти в случае с Вастерсом, являлось нежелание следовать господствующей моде и стремление восстановить преобладание стиля старинных мастеров. При успехе фальшивки она становится виртуальным фрагментом общей истории, а при неудаче — частью реальной истории мистификаций.
Ловкость рук майора Анри
Через столетие после процесса участников дела об ожерелье королевы во Франции в совсем иных исторических условиях возникло другое «дело», также основанное на подложных письмах и приведшее к острому политическому кризису, который поставил под угрозу существование республиканского строя. В этом деле причудливо столкнулись подлинные патриотические чувства и озверелый шовинизм, выгоды клики высших военных чинов и интересы французского народа, иезуиты и республиканский строй. Величие гуманизма выступало против низости реакционной демагогии. Широкая гласность пререкалась со строжайшей секретностью, а жизненная драма — с нелепой опереттой. Детективный роман прочно вплетался в ткань международных отношений. В уродливом хороводе сменяли друг друга подложные документы, контрразведчики из генерального штаба, нацеплявшие фальшивые бороды и темные очки для встречи с заведомым преступником, международный шпион и содержатель публичного дома, возведенный в ранг национального героя, и послушные судьи в офицерских мундирах, в порядке воинской дисциплины безоговорочно принимавшие на веру любые небылицы.
Речь пойдет о знаменитом «деле Дрейфуса», вызванном попыткой монархической и клерикальной реакции «свалить» Республику и предотвратить либеральные политические преобразования. (Эта подоплека «дела» первоначально не была осознана республиканцами как правого, так и левого толка, включая многих лидеров социалистов.) Военный министр Мерсье и другие генералы решили спровоцировать обвинение еврея капитана Альфреда Дрейфуса в шпионаже в пользу Германии и разжечь таким путем шовинистический психоз в стране. Сын богатого фабриканта из Эльзаса, присоединенного после франко-прусской войны 1870–1871 гг. к Германии, ничем не выделявшийся, кроме своей национальности довольно бесцветный артиллерийский офицер был избран жертвой провокации для обвинения Республики в том, что благодаря установленным ею порядкам «чужак» мог попасть в святая святых монархической военщины — генеральный штаб. Мерсье с самого начала знал о невиновности Дрейфуса, что не мешало ему с яростной настойчивостью поддерживать обвинение.
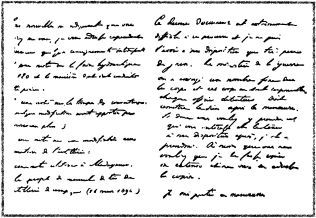
Непосредственно провокация зародилась в недрах контрразведывательного отдела — «секции статистики» Второго бюро генерального штаба (так называлась военная разведка). В конце сентября 1894 г. секция статистики получила или, точнее, утверждала, что получила от своего агента Брюкера, наблюдавшего за военным атташе германского посольства полковником Шварцкоппеном, документ, впоследствии фигурировавший под названием «бордеро» — письмо с описью разведывательных данных, которые автор этого явно составленного в качестве черновика и неподписанного перечня пересылал немецкому военному атташе. Наименее загадочным было в бордеро отсутствие подписи — шпионы не любят оставлять свою визитную карточку. Но надо добавить, что столь же не принято у них изготовление подобных описей (тем более от руки, а не на пишущей машинке), а у руководителей шпионажа — небрежно бросать подобные, секретные документы в мусорную корзинку, даже не дав себе труда разорвать такую бумагу на мелкие клочки. Такой опытный разведчик, как полковник Шварцкоппен, вряд ли мог поступить так, зная по предшествующему опыту, что за посольством ведется тщательная слежка. Он лишь не знал, что главным источником информации была уборщица германского посольства и горничная дочери посла некая мадам Бастиан. Немцы ее считали слишком тупой, чтобы опасаться. Между тем эта весьма оборотистая особа через своих любовников, среди которых был и упомянутый Брюкер, за солидное вознаграждение из секретного фонда французского генштаба регулярно, два раза в месяц доставляла офицерам секции статистики содержание корзин для мусора в служебных кабинетах посольства и даже не до конца сгоревшие бумаги из камина. Именно оттуда, если верить генштабистам, они и получили бордеро. Но не менее правдоподобно предположение (и его высказывало немалое число современников), что бордеро было сфабриковано в самой секции статистики, и лишь позднее была инсценирована его доставка от мадам Бастиан. Правда, впоследствии обнаружился и «германский след». Поведение германского правительства во время дела Дрейфуса убедило общественность, что оно не только не пыталось смягчить остроту возникшего кризиса во Франции хотя бы заявлением, что Дрейфус никогда не был немецким агентом, но лишь подливало масло в огонь. Не подкинуло ли посольство бордеро мадам Бастиан, чтобы та передала его офицерам секции статистики? Вопрос этот так и остался открытым, а признание за истинное одного из этих двух взаимоисключающих предположений ведет к созданию совершенно не схожих версий первоначального развития «дела», по крайней мере, одна из которых неизбежно является виртуальной историей.