На протяжении большей части времени, протекшего со времени понтификата Александра VI, преобладала традиционная версия, кратко изложенная на предшествующих страницах, несмотря на попытки отдельных церковных авторов вступиться за репутацию Борджа. Каждая эпоха находила свои краски для описания главных персонажей драмы. Так Лукреция изображалась в XVII и XVIII веках в качестве фаворитки, заправляющей делами своих мужей. Виктор Гюго в драме «Лукреция Борджа» (1831 г.) представил дочь Александра VI в виде роковой женщины, адской отравительницы, правда, покаявшейся в конце жизни. Появились и попытки изобразить ее невинным ангелом, страдающим от жестоких нравов эпохи. А известный немецкий ученый Ф. Грегоровиус, автор многотомного фундаментального исследования «История города Рима в средние века», в своей версии биографии Лукреции (1874 г.) изобразил ее добродетельной матроной.
В нашу эпоху Мода на «переписывание истории» не обошла и жизнеописания семейства Борджа. Так, в 1940 г. церковный историк Феррара в книге «Папа Борджа. Александр VI», привлекая венецианские и другие архивы, сделал открытие: «В течение всей эпохи Возрождения не было никого, кто имел бы более гуманные идеи свободы церкви, государства и человеческой деятельности». А в 1955 г. известный католический ученый, один из авторов многотомной истории папства Даниэль-Роп писал, что, хотя не все убийства, приписываемые Александру в «легенде о Борджа», были вымыслами злонамеренных хронистов, папа действовал вполне в духе времени. Что же касается обвинений в разврате, они — сплошная выдумка, просто святой отец, надо признать, любил хорошо пожить, а поведение его детей — Чезаре и Лукреции — опять-таки отражало нравы времени. Как политик, Александр защищал интересы Италии. В переписывании истории его понтификата большую роль играло новое истолкование «бала с каштанами»: Иоганн Бурхард был человеком средневековых взглядов, он свято верил в получившие в то время широкое хождение рассказы о кознях дьявола, о шабашах, происходивших в конце октября или в начале ноября каждого года. Напомним, что «бал с каштанами» Бурхард относил именно к 31 октября. Короче говоря, он перенес в стены Ватикана распространенное представление о шабаше со всеми его даже мелкими подробностями. Это одно из изображений Александра VI в виде Антихриста, а не воспроизведение реальных событий. Такая оценка свидетельства Бурхарда была воспроизведена в книге немецкого историка С. Шюллер-Пироли «Борджа. Разрушение одной легенды» и повторена в ряде других, новейших работ.
Этими трудами окончательно сформирована ревизионистская историографическая версия истории понтификата Александра VI, базирующаяся, в основном и главном, на тех же источниках, что и традиционная версия. Пример с трактовкой «бала с каштанами» показывает, что истинность казалось бы неоспоримых документов, на которых базируется одна версия, может быть поставлена под сомнение или они даже могут быть положены в основу другой, не совместимой с первой, версии. И та и другая, эти недоказуемые взаимоисключающие версии, претендуют на то, что являются единственным адекватным отражением реальности. Тем самым это версии, одна из которых заведомо носит виртуальный характер.
Екатерина Медичи
После Александра VI известна еще одна фигура, считавшаяся в ренессансной традиции образцом коронованного преступника, — Екатерина Медичи. И как для Ричарда III — убийство принцев, а для папы Александра VI и Чезаре — тайное устранение людей с помощью кинжала и «яда Борджа», так для Екатерины, за которой тоже числили немало отравлений становившихся для нее опасными придворных и даже монархов, патентом на роль венценосного чудовища уже многими современниками считалась подготовка кровавой Варфоломеевской ночи. Как и в случае с семейством Борджа, интерес к личности Екатерины Медичи не угасал во все века, которые отделяют нас от ее эпохи. «На протяжении 400 лет Екатерина Медичи, это черное светило на небосклоне, беспокоит и завораживает нас. Из-за ее поступков и черт характера, расцвеченных фантазией многих поколений, она занимает большое место в нашей мифологии», — пишет один из ее новейших биографов, И. Клуля, в книге «Екатерина Медичи» (Париж, 1978).
Екатерина происходила из знаменитого рода Медичи, являвшихся правителями Флоренции. Ее выдали замуж за французского короля Генриха II. После его смерти она в течение трех десятилетий играла большую роль во французской политике при последовательно сменявших друг друга на троне трех ее сыновьях — Франциске II, Карле IX и Генрихе III. Франция вступила в начале ее фактического правления в полосу религиозных войн между католическим большинством, к которому принадлежала и сама вдовствующая королева, и другие представители царствующей династии Валуа, и приверженцами Жана Кальвина (кальвинизма — радикального течения в протестантизме). Во Франции кальвинистов называли гугенотами, вероятно, по имени Безансона Гюга, одного из первых проповедников идей Реформации. В гражданские войны во Франции активно вмешивались государства, где правили разные ветви династии Габсбургов: Испания и Священная римская империя германской нации, лелеющие надежду на создание «универсальной» католической державы, а также папский престол, — на стороне католиков, и Англия и сражавшиеся против испанского господства Нидерланды — на стороне протестантов. Внутри Франции партию непримиримых католиков возглавлял герцог Генрих Гиз, лидером гугенотов был король Наварры Генрих Бурбон (ставший через два десятилетия французским королем Генрихом IV). Оба они мечтали о захвате французского престола. Маневры Екатерины, направленные на сохранение трона за ее сыновьями, неизбежно втягивали ее в сложную внешнеполитическую игру, причем действия королевы-матери порой не совпадали с официальной политикой Франции.
Вооруженные столкновения продолжались с перерывами целое десятилетие, когда обе стороны, казалось, решили пойти на компромисс и сопроводить его войной против внешнего врага. Договорились даже о браке Генриха Наваррского и дочери Екатерины, принцессы Маргариты Валуа (знаменитой «королевы Марго»), Летом 1572 г. в истово католический Париж приехали тысячи дворян-гугенотов, чтобы присутствовать на предстоящем бракосочетании. На слабохарактерного короля большое влияние приобрел один из лидеров гугенотов, адмирал Гаспар Колиньи. Его влияние, казалось, подрывало позиции Екатерины. К тому же Колиньи настаивал на оказании помощи восставшим против испанского ига Нидерландам, надеясь, что внешняя война притушит внутренний конфликт. Екатерина же была ярой противницей такого курса, который втянул бы Францию в тяжелую борьбу с могущественной испанской державой. К недоброжелательству Екатерины в отношении адмирала прибавлялась ненависть к нему со стороны герцога Гиза, который считал Колиньи убийцей своего отца и горел жаждой мщения.
…Екатерина и король так торопились со свадьбой, что даже пошли на подлог, объявив, что ими получено разрешение римского папы на брак принцессы-католички с еретиком. На деле это разрешение было получено уже после свадьбы, отпразднованной 18 августа. Менее недели отделяло ее от Дня Святого Варфоломея. От «Варфоломеевской ночи» 24 августа 1572 г. — массового избиения фанатизированными толпами парижан тысяч гугенотов — без разбора: мужчин, женщин, древних старцев и младенцев на руках у матерей. Одним из первых людьми герцога Гиза был убит Колиньи. Екатерине Медичи приписывали изречение «Быть с ними жестокими — человечно, а быть милосердными — жестоко». Погибло по разным подсчетам три тысячи или более человек.
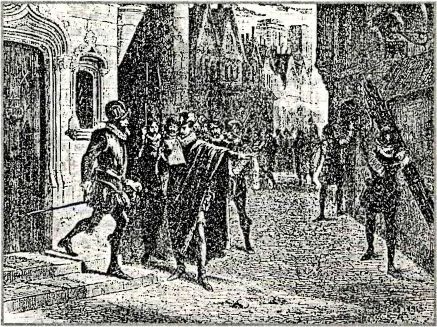
Чем же была эта вероломная жестокая бойня — результатом тщательно подготовленного заговора с целью физического истребления цвета гугенотской партии или внезапно принятого решения, под влиянием каких-то заранее не предусмотренных обстоятельств? Этот вопрос уже на другой день после побоища стали задавать современники. И взаимоисключающие ответы стали основой для двух версий истории Варфоломеевской ночи и истории Екатерины Медичи как фактической правительницы Франции.