В атмосфере общеевропейского «мистификационного бума», который усиливался в первые десятилетия XIX века, в России возникли споры об аутентичности открытого незадолго до этого «Слова о полку Игореве», не окончившиеся и по сей день. Не касаясь существа этих споров, нельзя не упомянуть доказанный факт, что неоднократные попытки представить взамен сгоревшего во время московского пожара 1812 г. единственного известного науке списка «Слова…» подложные списки были плодом усердия пресловутых фальсификаторов памятников древнерусской письменности А.И. Бардина и уже упоминавшегося выше Сулакадзева.
«Мистификационный бум» во Франции во времена Реставрации и Июльской монархии (1815–1848) породил немало подделок, значение которых не выходило за пределы литературных кругов, хотя косвенно влияло на господствующие литературные вкусы и исторические представления. Они были связаны с борьбой литературных течений, утверждением романтизма в качестве ведущего художественного направления этого периода. Примером может служить мистификация молодого Проспера Мериме — сборник песен «Гузла», опубликованный в 1827 г. Песни эти были приписаны вымышленному сказителю Иакинфу Маглановичу (часть из них российскому читателю знакома в пушкинском переводе как «Песни западных славян»).
Значительно большая историческая роль была суждена другой мистификации того же времени — Краледворской рукописи. В 1817 г. молодой чешский филолог Вацлав Ганка отправился для работы над местными архивными материалами в город Двур Кралове (Кралев-Двор) на Лабе. Через два года он возвратился в Прагу с сенсационной находкой — древними списками чешского народного эпоса. Ганка приложил к ним свой перевод обнаруженных им образцов народного фольклора на современный чешский язык, а также и перевод на немецкий язык, сделанный его другом писателем Свободой. Пергаменты, содержащие текст 8 эпических и 5 лирических песен, были, по словам Ганки, обнаружены им в склепе городской церкви. Наиболее авторитетные чешские слависты Домбровский и Палацкий датировали рукопись XIII или началом XIV века. В том же богатом счастливыми находками 1817 г. в Праге другом Ганки Линдой была обнаружена «Песня о Вышнеграде». А в следующем, 1818 г., какой-то посетитель, пожелавший остаться неизвестным, подарил Чешскому музею в Праге, в котором работал Ганка, еще один список, содержащий выдающийся образец средневековой чешской поэзии — «Любушкин суд» (его назвали — по месту находки — «Зеленогорской» рукописью). Все эти произведения были изданы, причем как в оригинале, так и в переводах, в разных странах. Для деятелей зародившегося чешского национального возрождения вновь обретенный эпос представлялся поистине подарком судьбы. Произведения, вошедшие в Краледворскую и Зеленогорскую рукописи, рассказывали о победе чехов над иноземными захватчиками, о высокой культуре чешского народа, о наличии у него уже несколько веков назад первоклассной литературы (ее отсутствие очень удручало идеологов освободительного движения). Понятно, что редкие и робкие голоса, выражавшие сомнение в подлинности потерянных и теперь возвращенных народу сокровищ, считались чуть ли не актом национального предательства, покушением на отечественную святыню. Напротив, немецкие ученые, которые могли не считаться с этими соображениями и, скорее, даже поощрялись консервативными кругами Германии и Австрийской империи к походу против подлинности чешского эпоса, стали все более склоняться в пользу признания Краледворской и Зеленогорской рукописей умелыми фальсификациями. Это мнение постепенно, к середине прошлого века, получило преобладание, но споры не прекращались. Насчитывают более тысячи научных исследований, посвященных проблеме аутентичности Краледворской рукописи. Сравнительно недавно на этих спорах была поставлена точка. В начале восьмидесятых годов уже XX столетия группа чешских исследователей-филологов и криминалистов установила, что пергамент, на котором написаны открытые Ганкой и Линдой произведения, содержал соскобленный, более ранний текст. Он, однако, датировался более поздним временем, чем XIII — начало XIV столетия, — временем, к которому относили поддельный чешский эпос.
Представление о недопустимости заимствования чужих сочинений или даже лишь отрывков, представление о литературной собственности, неизвестное античности и средневековью, в новое время тоже очень медленно и постепенно утверждалось в качестве нормы. Такими заимствованиями, которые более поздние поколения сочли бы плагиатом, грешили даже корифеи литературы. Знаменитый поэт К. Марло вставил в свое сочинение фрагмент из поэмы его современника Эдмунда Спенсера «Королева фей». Отрывки, которые Шекспир почерпнул у Марло, настолько многочисленны, что даже породили теорию, будто тот писал под именем уроженца Стратфорда, считающегося автором «Гамлета» (об этом далее). Такие же заимствования можно встретить у Мильтона в «Потерянном рае». В произведениях Вольтера их множество. Александр Дюма-отец создал настоящую фабрику по переработке чужих произведений в свои собственные. Б. Дизраэли (лорд Биконсфилд) почерпнул отдельные места из произведений Драйдена, Попа, Бальзака, историка Маколея. Эдвард Бульвер-Литтон повинен в заимствованиях из сочинений Жорж Санд. Список можно было бы продолжить.
Иллюзорные биографии Шекспира
Сомнения
Виртуальные биографии величайшего драматурга всех времен Вильяма Шекспира возникли при отсутствии фактов, которые бы сделали возможным написание его биографии. Те немногие факты, которые известны о жизни уроженца города Стратфорда актера Вильяма Шекспира, по мнению части исследователей, либо не говорят ничего, либо заставляют сделать вывод, что не он являлся подлинным автором гениальных драматических произведений, сонетов и поэм, изданных при жизни или посмертно, но когда еще были живы многие лично знавшие его люди. Поводом для возникновения «шекспировского вопроса», которому уже более двухсот пятидесяти лет, послужила именно скудость имеющихся биографических данных, причем все они такого рода, что никак не позволяют безусловно отождествить Шекспира-актера из городка Стратфорда, исполняющего мелкие роли, и Шекспира — поэта и драматурга, а, может быть, даже говорят против такой идентификации. (Шекспир в драме «Венецианский купец» осуждал ростовщичество, а актер Шекспир, кажется, не был чужд такому занятию, включая и выколачивание судебным порядком денег из неисправных должников и т. п.) В завещании, которое было составлено незадолго до смерти, он не забыл упомянуть даже «кровать поплоше», но ни словом не обмолвился о том, как распорядиться его рукописями или книгами. Может быть, их вообще не было у него, по крайней мере, не имелось в его доме. Родители Шекспира и жена были неграмотны, одна из дочерей не умела писать, что являлось, впрочем, нормой для жителей крохотного провинциального городка, где насчитывался 171 дом, 1400 жителей. Когда отец драматурга Джон Шекспир был избран в 1561 г. в городское управление, из 19 членов Совета только 6 умели подписывать свое имя. Обыватели Стратфорда, где Шекспир прожил, по меньшей мере, до двадцатилетнего возраста, говорили на диалекте, который был распространен в графстве Уорик, но который с трудом понимали в других районах Англии (с рекрутами, родом из Стратфорда, приходилось общаться через переводчика). В городе царила непролазная грязь, Джон Шекспир был в 1551 г. оштрафован за то, что перед его домом громоздилась навозная куча.
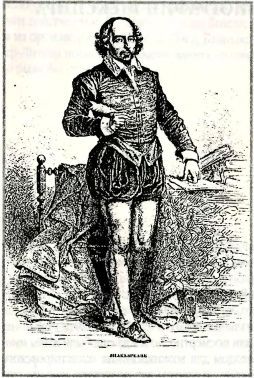
Не уцелело ни одного письма, написанного Шекспиром, ни единой строки. Сомнительны даже сохранившиеся шесть его подписей под юридическими бумагами, относящиеся к позднему периоду его жизни. Три из них — на завещании, одна — на свидетельских показаниях и две — на торговых документах. Они настолько различны, что возникает сомнение не принадлежат ли эти подписи разным лицам и не расписывались ли нотариусы за клиента, как это делалось, если тот не был обучен грамоте. Некоторые из подписей, напротив, как кажется, выведены человеком, не привыкшим как следует держать в руке перо. В завещании фамилия Шекспира транскрибировалась раз одним и четыре раза другим образом, но нигде как «Шекспир» — «Shakespeare». Вместо этого фигурируют «Шакспер», «Шакспир», «Шагспир» — «Shaxper», «Shakspere», «Shagspere». Используя это, многие противники авторства стратфордского уроженца пишут его фамилию «Шакспер», отличая, таким образом, от творца всемирно прославленных произведений — Шекспира. При жизни Шекспира его имя писалось через дефис: «Шек-спир» («потрясать копьем»), что делалось только тогда, когда речь шла о псевдониме. Все портреты Шекспира апокрифичны, не исключая и того, который приложен к первому собранию его сочинений, изданному через семь лет после смерти автора. Кончина Шекспира прошла совершенно незамеченной, на его смерть не было написано ни одной элегии, как это было в обычае того времени. В Стратфорде, видимо, не подозревали, что их земляк, а в последние годы жизни зажиточный землевладелец, являлся знаменитым писателем. Кстати, неясно, откуда Шекспир взял деньги для покупки в 1597 г. второго по величине здания в городе. Доходы других драматургов не превышали и десятой доли суммы, которая потребовалась для этого приобретения. Вдобавок, в платежных ведомостях, сохранившихся в архивах разных городов и в самой столице, где выступала труппа лорда-камергера, в которой состоял Шекспир, не значится (за одним исключением) его фамилия. По преданию, он был второстепенным актером и в шекспировских пьесах сыграл лишь роль призрака отца Гамлета. Да и то это, может быть, означало намек, что он являлся «призраком» подлинного автора. Имя Шекспира не появляется и в других архивных документах, имевших отношение к его труппе (в списке актеров, в перечислении членов труппы, бывших на приеме у испанского посла в 1604 г., в упоминании о потерпевших ущерб при пожаре в театре «Глобус» и так далее). Нет сведений, что Шекспир был знаком с кем-либо из литературной среды, за исключением драматурга Бена Джонсона. Ни в одном документе, относящемся к периоду его жизни, он не связывается с какой-либо литературной деятельностью. Шекспир проявлял полное безразличие к изданию сочинений, публиковавшихся под его именем. Неясно, где он находился — в Лондоне или Стратфорде, когда вышли прижизненные издания его произведений. В течение ряда лет, до того как стали печататься его пьесы, о Шекспире (если не считать полемического выпада против него, сделанного писателем Робертом Грином) было известно только как о поэте, авторе поэм «Венера и Адонис» и «Обесчещенная Лукреция», да и то речь шла о Шекспире, а не обязательно об актере из Стратфорда «Шакспере». Не заплатили ли ему за то, что он согласился стать подставной фигурой, исчезнуть с глаз долой из столицы и не возражать против публикации под его именем сочинений, написанных другим лицом? Зять Шекспира доктор Холл в своем дневнике не упоминает, что его тесть — автор известных сочинений. Ни один современник прямо не говорит о Шекспире как об авторе выходивших под его именем произведений. А остальные, более глухие упоминания допускают двоякое толкование. Не называет имени Шекспира актер Аллен, который вел дневник, где отмечал многие театральные события и происшествия. Имя Шекспира значится в купчих о продаже зерна и солода и других подобных документах.