Запоздалые струи
<VII>
<…>
Моя детская комната была подле спальни отца и матери, и кроватка стояла у самых дверей, так что и старинно-патетическое чтение отца, и сентиментально-дьячковское и монотонное чтение Сергея Иваныча — были мне слышны до слова в продолжение ночи, кроме того уже, что никто не препятствовал мне слушать, прижавшись где-нибудь в уголку, чтение вечером, начинавшееся обычно после пяти часов, т. е. по окончании вечернего чая в моей комнате, служившей вместе и чайною. Разве только отец иногда заметит, да и то больше «для проформы» (как он выражался насчет разных официальностей), «ты бы шел лучше в залу с Маришкой играть», а Маришка, т. е. Марина, была девочка моих лет, нарочито для удовольствия барчонка привезенная из Владимирской деревни; но о непременном выполнении своего замечания отец нисколько не заботился, сам слишком увлекаясь интересом читаемого, да разве если уж что-либо слишком страшное или слишком скандальное очень явно предвиделось в дальнейшем ходе читаемого, то высылал меня вон с авторитетом родительской власти. Да и на то были средства. Коли только вечер был не летний, т. е. коли я, volens-nolens, не должен был отправляться на двор или в сад, я с замиранием сердца, на цыпочках прокрадывался в девичью, находившуюся подле моей комнатки, усаживался около шившей у дверей Лукерьи и, не мешая ей разговорами, прислонялся ухом к дверям и опять-таки, с маленьким перерывом, дослушивал от слова до слова привлекательные уже самою таинственностью своей страхи или скандалы… <…>
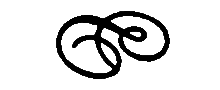
Письма
M. П. Погодину
<Июнь 1843—февраль 1844>
Честь имею доставить Вам второй акт моей драмы или, другими словами, сделать на Вас нападение, чему виною, впрочем, Ваша снисходительность… Хотелось бы мне знать, пропустит ли цензура ее завязку на масонстве? Впрочем, масонство здесь чистый факт, субстрат высших нравственных убеждений, которые сами судят Ставунина, заставляя его сказать:
В монахи
Я не гожусь — мне будет так же душно
В монастыре…
Не браните ради бога за его личность — не на каждом ли шагу она встречается, более или менее, конечно… Это сознание о необходимости смерти, как единственной разумной развязки, тяготеет над многими, над иными как момент переходный, над другими как нечто постоянно вопиющее… и мне кажется, что это — момент высший в отношении к моменту апатии и божественной иронии гегелистов, как самосуд, автономия выше рабства. Рабство — тоже самосуд, но только исподтишка, при случае: рабство носит само в себе ложь на себя — самосуд сознает ложь себе признанием неумолимого божественного правосудия… Ему недостает только слова сознания… Эти две лжи — рабство и самосуд отражаются, как мне кажется, во всей истории философии вне Христа: 1) рабство, пантеизм — в лице известных представителей, 2) самосуд — в гностиках, в Бёме, даже в Лютере. Те и другие — лгут, одни, отвергая бога, другие, отвергая мир… С такого момента глубокого аскетизма, аскетизма сатаны, с знания без любви начинается процесс в душе моего героя. Слово любви, слово ответа — для него в одном прошедшем; без него — он мертв. «Бывалый трепет» чувствует он при встрече с этим прошедшим, но это трепет смерти, трепет мертвой лягушки от прикосновения гальванической нити… Отвратительное, по возможное явление…
глубоко преданный Вам
А. Трисмегистов
7 июня 1847 <Москва>
Милостивейший государь Михайло Петрович!
Вы меня браните за то, что я не умею распоряжаться своими нуждами, и Вы были бы совершенно правы, если бы у меня не было довольно печального прошедшего. Нельзя более меня желать установиться, желать никого на свете не беспокоить собою, даже Вас, несмотря на Ваше благородное участие; но есть обстоятельства, из которых не слишком скоро выпутаешься, под гнетом которых падает всякое желание добра. Об этих-то обстоятельствах хотел я вчера говорить с Вами как с единственным человеком, в которого я верю и — прибавлю еще — которого доброта может спасти меня; хотел и, к сожалению, не мог. О них и теперь я хочу писать Вам, уверенный, что если Вы и не захотите мне помочь подняться, то, по крайней мере, будете столько добры, чтобы поверить искренности и горькой необходимости этого объяснения — необходимости очень простой и понятной. Вы — единственный человек, перед которым мне не стыдно обнажить и свои душевные язвы, и свои запутанные обстоятельства. Вы понимаете слишком много и смотрите слишком далеко и широко, несмотря на то, что Вас самих благое Провидение предохранило от различных омутов падения.
Крепко запало мне в душу слово Гоголя: «с словом надобно обходиться честно»; книга его осветила для меня всю бездну, в которой я стоял, — бездну шаткого безверия, самодовольных теорий, разврата, лжи и недобросовестности; позорно стало мне звание софиста, стыдно взглянуть на все свое прошедшее… «Лучше быть поденщиком», — сказал я себе, и — видит Бог — я готов бы был камни таскать скорее, чем продолжать говорить самоуверенно то, что отвергает душа моя… Мне надоела и опротивела и бесплодная софистика, и бесплодно-праздная жизнь, и от болезни ли нравственной, от другого ли чего-либо, но среди этих нравственных пыток посещали меня в последнее время минуты, давно незнакомые, минуты, когда опять я чувствовал себя чистым, свободным, гордым… когда я благодарил неведомого за то, что спадает с меня постепенно гниль разочарования и безочарования, что снова способен я пламенно верить в добро… Я чувствую — нет, я знаю, что силы мной не растрачены, что их еще слишком много, но есть путы, которые мешают им. Повторяю, помогите мне нравственно подняться. Путы эти — долги и болезни физические. Для того чтобы я мог запереться в уединение, в самого себя, — надобно разделаться с мелкими, но беспокойными долгами; для того чтобы я светлее взглянул на жизнь, я должен позаботиться о своей физической природе, которая — это назовите, пожалуй, пунктом моего помешательства — слишком тесно связана с нравственной: развитие и поправление своих физических сил кажется мне столько же необходимым, сколько занятие отечественными науками, которому я начал посвящать все свое свободное время.
Вы спросите, отчего я не обращаюсь с моими потребностями к моим домашним? Во-первых, теперь я хочу уже быть обязанным всем себе и своему труду; во-вторых, средства их в настоящую минуту очень плохи; в-третьих, наконец, — простите мне откровенность, — не все то поймется ими, что Вы поймете.
Мне нужны, — но нужны скоро и сполна, — 150 или 100 р. серебром; если Вы дадите мне 100 р. серебром, я заплачу 225 р. должков и буду лечить себя нынешнее лето купаньем и плаваньем; если 150, я буду еще лечить себя гимнастикой.
Состоится ли, нет ли дело о «Москвитянине», но в течение десяти месяцев я уплачу Вам: 1) сто рублей серебром деньгами, по 10 р. серебром в месяц (ибо кроме «Листка» я делаю еще разные работы для детских книжонок Наливкина), 2) пятьдесят — какою Вам угодно будет работою, по 5 р. серебром за печатный лист.