В доме Яковлевых заплаканная Анна Ивановна убирала комнаты, еще носившие следы недавнего тщательного обыска. Николай Николаевич был хмур и неразговорчив.
— Вот-с, Павел Карлович... Сразу двух. Так хоть по очереди брали, а тут — сразу... Скучно, знаете, как-то сразу стало без этих моих разбойников. Недолго мой Коля погулял на воле.
— Обоих дома взяли?
— Дома только Варвару. Коля был где-то на собрании. Их всех и взяли — как перепелов сетью накрыли. Весело, весело Новый год встречаем!..
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К ЗВЕЗДАМ!..
Сгорбившись, по заснеженным улицам возвращается домой Штернберг. Домой ли? Скорее, в обсерваторию. А ведь столько лет у него понятия «дом» и «обсерватория» совпадали! С тех самых далеких времен, когда, только-только натянув студенческую тужурку, зеленым первокурсником пришел он в университетскую обсерваторию на Пресне.
И не испугался увиденного. Не из Парижа, не из Вены Штернберг приехал в Москву, а из тихого, пыльного провинциального Орла. Но и в своем родном городе никогда он не видел таких скучных и чахлых огородов, как тестовские огороды около обсерватории; никогда не видел раньше таких безотрадных замусоренных пустырей, где играют в бабки оборванные ребятишки. А рядом зловонный Камер-Коллежский вал; через каждый дом — трактир, ночлежка, смрадные мясные лавки, где продают потроха и мослы, привозимые с боен. В немощеных грязных переулках вокруг обсерватории — длинные бревенчатые бараки для рабочих Прохоровской фабрики. Даже в летние дни переулки тихи и безлюдны. Жители этих домов выходят на работу, когда еще весь город спит, а возвращаются домой через четырнадцать или шестнадцать часов. И только по воскресеньям, по редким праздничным дням возникает в этих переулках резкий звук гармошки, пьяная песня, шум, драки...
Ну и что! Разве грязь и нищета кругом, разве собственная бедность и неустроенность имели для него тогда значение? Он про себя гордо повторял любимую латинскую пословицу своего учителя, знаменитого Бредихина: «Через тернии — к звездам!» Ему надобно было пробиться к звездам. И не фигурально, а к самым настоящим, тем, что горят в небе в хорошую ясную зимнюю ночь... Двадцать шесть лет назад, в свои первые студенческие каникулы, Штернберг не поехал домой в Орел, остался в Москве, чтобы работать в обсерватории. Вот когда ему было хорошо! Не надо ждать своей очереди, чтобы сесть у объектива астрономической трубы. Да не сесть — тогда еще и сиденья не было! — а стоять. Стоять на ногах с девяти утра до восьми вечера, почти без перерыва, отрываясь только, чтобы записать в тетрадь да сбегать напротив в кухмистерскую закусить. К вечеру у силача Штернберга дрожали от усталости ноги и все плыло перед глазами. Но у астронома день на этом не кончается. И еще до часу, до половины второго ночи приводил в порядок записи, делал сложные вычисления. А в шесть утра вскакивал, чтобы вовремя быть на дежурстве. Так это летом, когда еще за звездами наблюдать трудно и главным объектом наблюдения служит солнце! А когда начнет темнеть, появится ночное звездное небо, тогда главная работа перенесется на ночь.
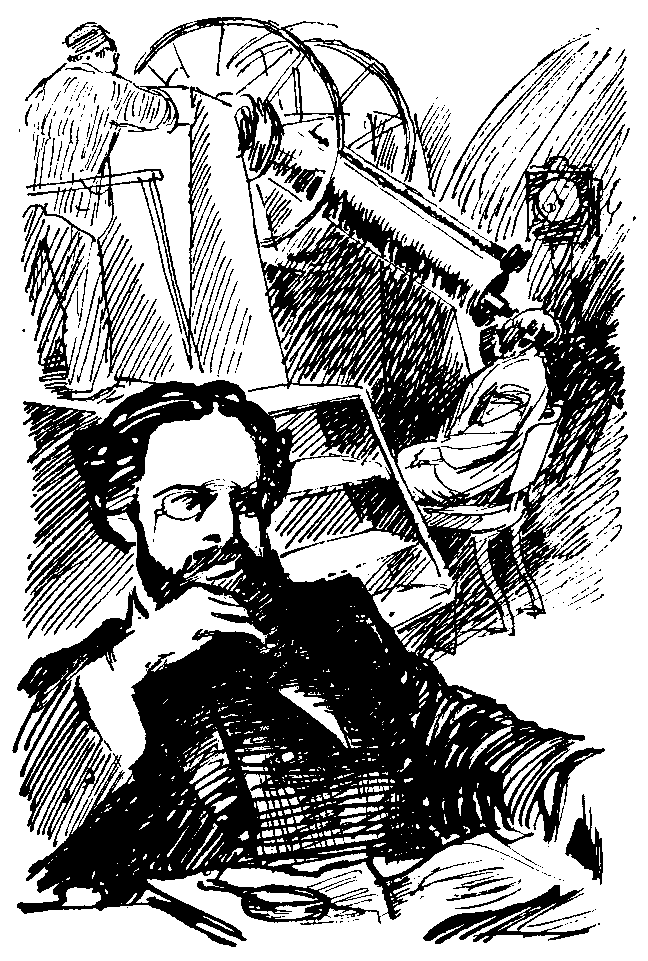
И в следующие летние каникулы остался в Москве. И уж вовсе был счастлив, когда получил разрешение переехать на жительство в маленький хозяйственный флигель обсерватории. Кроме всего прочего, какая экономия на ботинках! Ходить-то надо было пешком. Денег не хватало не только на конку, не всегда и на марки для писем домой. Товарищи над ним посмеивались, считали его скуповатым из-за того, что не бегал с сокурсниками в пивнушку, не бродил со студенческой компанией по Козихе, не танцевал на студенческих балах. Штернберг ничего этого не мог себе позволить. Иногда выкраивал копейки на то, чтобы купить самый дешевый билет на симфонический концерт.
Ну, вот и его родной Никольский переулок! И знакомые ворота с калиткой. И выстланная щебнем дорожка к дому. Приходило ли ему в голову в те далекие дни, когда он перенес сюда свою скудную студенческую корзинку, что почти до конца жизни этот дом станет местом его проживания, работы, почти всех интересов? Что здесь родятся и будут расти его дети?
Открыл своим ключом дверь, неторопливо разделся, прошел к себе в кабинет, привычно зажег настольную лампу. Маркс внимательно смотрел на него из серебряной рамки. Ну, что ему осталось от дома? Вот этот кабинет. Да еще детская в дальней половине квартиры. И конечно, обсерватория.
А ведь было время, когда этот дом был весь его и никакого другого дома у него не было. И никаких интересов, кроме тех, что с этим домом были связаны! Еще на последнем курсе Бредихин предложил ему остаться в обсерватории, стать его помощником. И вместе со своим дипломом получил официальную бумагу о том, что «оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию».
Из огромного спектра наук, объединенных названием «астрономия», Штернберг выбрал то, что ему было более всего интересно. Гравиметрия. Эта темная, еще малообъяснимая сила притяжения. Сила тяжести. Известная с тех пор, как человек осознал себя как существо разумное. И непонятная, с необъяснимыми отклонениями. Как же интересно ему было этим заниматься! Ездить по всей России в поисках гравиметрических отклонений; увлеченно рассказывать об этом студентам; писать статьи в тоненьком журнале с гордым названием «Анналы Московской обсерватории»; делать доклады в Московском обществе испытателей природы...
Как сначала было ясно, безоблачно!.. Довольно быстро стал приват-доцентом. Правда, звание почетно, а денег мало — только почасовая оплата. Но сразу же по окончании университета начал преподавать физику и космографию в гимназии Креймана в Пименовском переулке. Расходов было немало. Умер отец. Женился. Как странно для него обернулись его гимназические вакации в имении Картавцевых! Женился на Верочке... Воспитанница Смольного института, привыкла к богатому дому в Орле, к жизни в имении. А пришлось поселиться в скромной казенной квартире астронома в доме обсерватории. Ничего! Держалась мужественно.
Вот и началась эта накатанная жизнь. Читает в университете курс небесной механики и высшей геодезии, преподает в гимназии Креймана, ведет курс физики в Александровском коммерческом училище. Ездит в экспедиции и возится с гравиметрическими аномалиями. Имеет абонемент на симфонические концерты в консерватории и Благородном собрании. Сам играет в симфоническом любительском оркестре университета партию первого кларнета. Нечастые обмены визитами с учеными коллегами. Словом, жизнь как у всех.
Спокойный, устойчивый старый корабль — дом на Пресне — плыл по хорошо разведанному маршруту. Будущее было заранее известно. В свое время станет директором обсерватории, заслуженным профессором, действительным статским, тайным советником. Будут величать «превосходительством». Станет носить на парадном сюртуке большие серебряные звезды...
Когда же уклонился корабль его жизни со своего маршрута? Когда в нем, в аполитичном, бесконечно преданном науке астрономе Штернберге начала происходить эта перемена? Перемена всего: отношения к людям, к политике, к семье?.. Когда это все произошло? И как же это случилось?..
Да, да!.. Незачем себя обманывать! Он, приват-доцент Павел Карлович Штернберг, был тогда как все. Как все профессора, заслуженные и простые, ординарные и экстраординарные, как приват-доценты и ассистенты. За исключением редких зубров-монархистов, все они возмущались, все были на стороне студентов, многие даже считали себя политическими деятелями. В этой среде почему-то считали, что заниматься политикой — значит говорить. Говорить на банкетах, заседаниях, во всяких обществах. Вот так постучать легонько вилкой по тарелке, чтобы привлечь внимание сидящих на банкете, а потом произнести что-нибудь этакое возвышенное, многозначительное, несогласное. И ввернуть подходящую латинскую поговорку, явно направленную на ниспровержение. Гром оваций, подвыпившие доценты лезут целоваться, на другой день студенты встречают начало лекции об отчуждении церковных земель при Юстиниане бурной овацией. И ходит этот банкетный оратор с видом человека, который только что ниспроверг существующий строй. И считает себя почти революционером.