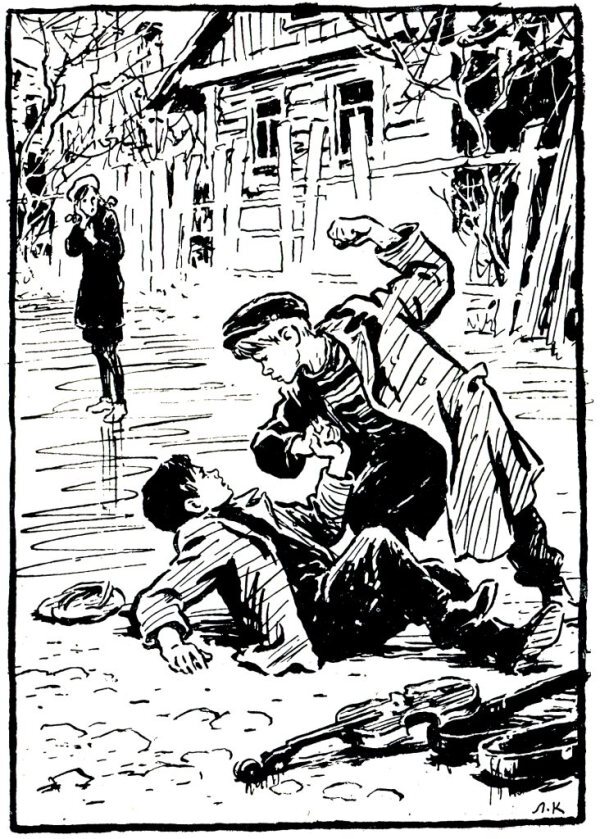— «Дзор»? Что это значит?
— Бестолковый! — Люся перешла на шепот: «Дзор… Это же сокращенно: «Да здравствует Октябрьская революция!»
Да, наш город помнил, какой сегодня день. На другой улице мы увидели на заборе фашистский плакат. Неизвестный художник пририсовал вокруг шеи Гитлера удавку и написал на свастике большие буквы: «СНО!»
«Смерть немецким оккупантам!» — пояснила Люся.
Я огляделся. Ни одного прохожего. Еще рано.
— Подержи скрипку и следи, не появится ли кто…
Вытащив из кепки календарный листок, я накрепко приколол его кнопкой под надписью «СНО!».
— Бежим скорее! — Люся явно испугалась. — Мне нельзя рисковать.
— Мне тоже нельзя рисковать, — сказал я. — До десяти часов…
— Что «до десяти часов»?
— Нельзя рисковать. А потом, после десяти, можно…
— Не понимаю, что ты говоришь… — Она облизнула пересохшие губы и спросила: — Проводишь до аптеки?
— Конечно! «У меня в запасе вечность!»
— Тогда пойдем через Глухой переулок. С тобой мне не страшно.
— А без меня?
— Без тебя я хожу другой дорогой…
— Почему?
— Там ведь Васька живет. Я с ним раз встретилась… он грозился…
— Как это — грозился?
— Грозился донести, что мой папа коммунист…
— У, гадюка! Попадись он мне сейчас!
— С тобой я не боюсь… Ты сильный… смелый…
Я взял ее за руку. Люся показалась мне такой слабенькой, такой беззащитной и одинокой, что я и сам не знаю, как у меня вырвалось:
— Люсенька! Я так тебя люблю! Мы всегда будем вместе!
Она шла с полузакрытыми глазами, я услышал, как она тихо повторила:
— Всегда будем вместе…
Мы шли, боясь взглянуть друг на друга. Горячая ладонь Люси лежала в моей руке, и я с тоской подумал, что через несколько минут мы расстанемся до самого вечера. Я и не подозревал, что никогда больше ее не увижу.
Мы свернули в Глухой переулок, и сразу перед нами, словно привидение, возник Васька Пенов.
— Привет красным тимуровцам! — гаркнул он, осклабившись. — Встретились! Теперь можно и должок отдать, расплатиться!
— Не дури, Пенов! — Люся хотела обойти его, но он заступил ей дорогу.
— Не спеши! Сейчас твой до-ре-ми-фа-соль захрюкает. Получит сполна!
— Я не испугался, я чувствовал, что Ваське со мной не справиться.
— Забыл про фонарь! — сказала Люся, тяжело дыша. — Хочешь второй получить?
Васька царапнул Люсю бешеным взглядом, и тотчас же глаза его застыли на моей левой руке. Я понял подлый замысел Васьки — сделать меня калекой, чтобы я не смог больше играть. И тут же я вспомнил приказ Ивана Ильича: сегодня от восьми до десяти играть, во что бы то ни стало.
— Пойдем, Люся… — мой голос противно дрожал. — Я с ним завтра встречусь. Сейчас мне некогда, и ты опоздаешь…
Люся подняла на меня воспаленные глаза. В них застыли испуг и удивление.
— Ах, ему некогда! — Васька снова уставился на мою левую руку, и я невольно спрятал ее за спину. — А мне плевать, что тебе некогда!
И он ткнул меня кулаком в грудь.
По-прежнему держа руку за спиной, я отмахнулся от Васьки футляром, в котором лежала скрипка.
— Отстань! — сказал я и опять услышал унизительную дрожь в своем голосе. — Чего пристал? Я тебя не трогаю…
— А я трогаю! — Васька ухмылялся, и от этого стало страшно. — Я трогаю! Получай!
Он ударил меня по лицу. Я отшатнулся, прикрываясь футляром, продолжая держать левую руку за спиной.
— Андрей!!! — В Люсином крике были растерянность, презрение, обида. — Андрей!
Новый удар Васьки свалил меня на землю. Скрипка отлетела в сторону. Васька не дал мне подняться. Ему удалось захватить в кулак пальцы моей левой руки.
— Проси прощенья! — прохрипел он, сдавливая изо всех сил мои пальцы. — Ну!
Я молчал.
— Ну?! Будешь просить прощенья?!
Мне послышался голос Ивана Ильича так отчетливо, словно он стоял рядом: «Ты должен завтра играть. Это — приказ».
— Прости… — Я задыхался от стыда.
— Громче! Чего шепчешь?! Пусть Люська слышит!
— Прости… — сказал я громче.
— Трус! — Это крикнула Люся. — Трус! Презираю!
Васька захохотал.
— Слышал? Теперь Люська видит, какой ты храбрец. Теперь хоть пойте, хоть играйте — мне плевать! Я свой должок отдал. С процентом!
Он отпустил меня и, сунув руки в карманы, зашагал пингвиньей походкой в дом с флюгером.
Я поднялся, не решаясь взглянуть на Люсю, и стал обтирать грязь с футляра рукавом куртки. Это было так глупо — заботиться сейчас о футляре. Но я не мог поднять голову, и все тер и тер черный футляр…
Боясь оглянуться, я ждал, что Люся заговорит первая. Но она молчала. Я вдохнул в себя воздух, как перед прыжком в воду, и обернулся.
Люси не было.
6
Ровно в восемь я стоял на своей рыночной скамье. Торговля и менка была в разгаре.
«Катюша», как всегда, привлекла слушателей. Я старался ни на кого не смотреть. Мне казалось, что все знают о моем позоре. Я играл «Катюшу», а в ушах звенел Люсин голос: «Трус! Презираю!»
«Расцветали яблони и груши» — выводил мой смычок, а мне чудились совсем другие слова. Их пел на мотив «Катюши» Люсин голос: «Презираю труса, труса, труса…»
Я оборвал песню и заиграл «За власть Советов». «Слушай, рабочий, война началася», — подпевал я себе, чтоб заглушить Люсин голос.
Кончив играть «За власть Советов», я исполнил увертюру из «Кармен» и несколько вальсов, потом, до перерыва, сыграл еще два раза «За власть Советов». Полицаев пока что поблизости не было.
Видя, что я укладываю скрипку в футляр, слушатели начали расходиться.
Я сел на скамью, стараясь не вспоминать ни о Ваське, ни о Люсе, но я не мог сейчас думать ни о чем другом. «Я объясню ей, — успокаивал я себя. — Пойду к ней после десяти и объясню…»
На рынке в этот день все было, как обычно. Людей сюда сгонял голод. Каждый пытался сменять поношенное тряпье на хлеб или картошку. Те, которым уже нечего было менять, стояли с протянутой рукой.
Поблизости, спиной ко мне, за базарным столом маячила торговка в ватнике. Перед ней стояло ведро, наполненное картошкой. Отдельно, на прилавке, лежали три небольших картофелины. При виде их я почувствовал голод. «Если денег хватит, куплю у нее десяток», — подумал я.
Отдохнув немного, я опять заиграл «За власть Советов». Снова вокруг собрались люди. До сих пор не знаю, как случилось, что на этот раз я исполнил припев. Исполнил и сразу почувствовал, как встрепенулись слушавшие меня.
Стоявший рядом со мной инвалид на костыле вдруг тихо запел:
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов…
Смычок дрогнул в моей руке. Я вспомнил предупреждение Ивана Ильича — припева не играть. Никто, кроме инвалида, не осмелился запеть вслух старую боевую песню. Но я не сомневался: все, кто слушает меня сейчас, беззвучно повторяют про себя ее слова.
И, как один, умрем
В борьбе за это!—
выкрикнул инвалид и поднял высоко свой костыль.
Я был счастлив. Я заставил этих людей вспомнить, какой сегодня день! Они слушают меня, и в глазах их нет в эту минуту ни страха, ни тоски!
И тут я увидел, что ко мне проталкивается полицай. Перекошенное злобой лицо его не оставляло сомнений: он услышал припев. Я закатил глаза к небу, как это сделал накануне Иван Ильич, и запел во все горло:
Белой акации гроздья душистые
Вновь ароматом полны.
Вновь разливается песнь соловьиная
В бледном сиянье луны…
Полицай растерялся. Злобное выражение на его роже сменилось недоумением. Я продолжал, не щадя глотки: