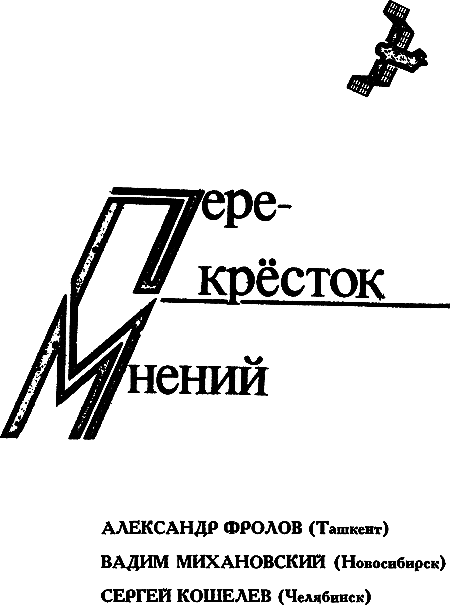А в ту пору догадалась Галвин Сеерий: не вызвать ей дух Алтан Галав-хана, не заполучить его никогда!.. Поняла она, что не всего можно добиться силой зла, и дала клятву стать на дорогу добра. И сдержала слово! Родились у нее трое сыновей, которые позже сделались ханами страны Шарай Гол. А Тувдэн Нима Осорма знала о том заранее — потому и не велела она убивать Галвин Сеерий.
У принцессы Задангуй тоже родился сын, и Алтан Галав-хан дал ему имя Чутан. Он был братом шарайгольских ханов и дядей Гэсэр Богдо-хану. И ханы страны Шарай Гол принимали его с радостью, называя старшим братом, и Гэсэр уважал его как дядю. И там и сям успевал Чутан, с тех пор в наших краях двурушников так и называют чутанами!..
Жили все в Среднем Тиве в добре и согласии, когда Тувдэн Нима Осорма сказала однажды:
— Надо новый дворец строить.
— Зачем, — удивились Сэнлун и его жена, — когда есть у нас такая прекрасная хото-мандал, огненная крепость?
— Она была спущена с небес для защиты от мангасов, — ответила государыня. — А теперь истек срок и ее земной жизни, и нашей…
И правда! Проснулись однажды дети Алтан Галав Сандал-хана и видят: нет ни отца, ни матери, ни трех баатаров… И огненной крепости нет, будто никогда и не было.
* * *
Вот и вернулись на небеса пятеро тенгри из девяти, сошедших на землю, чтобы победить мангасов. Их имена: Алтан Галав Сандал-хан, Хар Сандал, Суунаг Цагаан, Шилэн Галзуу и Тувдэн Нима Осорма.
А вот Цагаан Сандал так и не расстался с табунами Дуулга-баяна — остался на земле покровителем скота.
Сам Бурхан и ее сыновья Сэнгэ Донран и Шуусран Донран и по сей день стерегут отверстие, ведущее в Океан Крови, куда сбросили мангасов.
Советники Алтан Галав-хана, Шавдай и Нявдай, стали хозяевами гор. Лувсан с его честным и спокойным нравом — покровитель земли. А хитрец Хастараа, который и соврать может, и из любой беды вывернется, сделался хозяином изменчивой воды.
Еще говорят, что Владыка Хурмаст щедро наградил пятерых тенгри — победителей мангасов… но не нам судить о деяниях бессмертных небожителей.
Послесловие
В прошлом году, пытаясь наметить пути фантастов «Школы Ефремова» в пустыню Гоби — по следам нашего Учителя, — я оказался в древней Урге — нынешнем Улан-Баторе. В Союзе Писателей как раз открылся семинар прозаиков, меня попросили выступить, ответить на вопросы. Когда спросили, что, на мой взгляд, самое насущное для пробуждающейся Монголии, я ответил без долгих раздумий: «Главное — восстановить все семьсот разрушенных монастырей и вернуть народу его память: первобытные сказания, легенды, поверья. Ни одной подобной книги в здешних магазинах я не нашел».
Этот разговор с писателями случился, оказывается, за два дня до праздника Рождения Будды, а в день празднества меня пожелал принять духовный Владыка Монголии — хамба-лама. Наша беседа продолжалась около часу. Поблагодарив за призыв к духовному возрождению некогда цветущей страны, хамба-лама вручил мне награду — почетный знак мирового сообщества буддистов. Знак оказался похожим на орден Андрея Первозванного: на голубом поле два перекрещивающихся голубых золотых жезла — очиры, что отгоняют мировое зло.
Через неделю я улетал в Москву. На аэродроме, уже прощаясь, переводчик Мэргэн (он когда-то учился в Москве в Литературном институте) сказал: «Да, наши святыни уничтожены, по всей стране лишь два монастыря уцелело. И фольклор в забвении у власть предержащих. Но народ не обеспамятел, в нем жива устная традиция. Познакомьтесь с записями одного из моих родственников — народного сказителя. Здесь подстрочный перевод мифов о сотворении мира, о перволюдях. Если это обработать, снабдить необходимыми пояснениями — русскому читателю приоткроется Монголия, как открылась она когда-то Ивану Ефремову на «Дороге Ветров».
Я прочитал тетрадку в самолете и еще успел взглянуть в иллюминатор на благословенную землю, родившую «Деяния небожителей»…
Перекресток мнений
Александр Фролов
Мнение читателя
Информация «В совете фантастов», помещенная на последней странице книги Ю. Глазкова «Черное безмолвие», содержит перечень наиболее удачных за последние годы книг издательства. Значится в нем и книга А. П. Казанцева «Клокочущая пустота», а также сборник «Фантастика-86», свое мнение о которых хотелось бы высказать.
А. П. Казанцев — признанный мастер фантастического жанра. В своих произведениях он исходит из того, что нельзя превращать вымысел в самоцель, отрывать его от действительности. «Призвание подлинно художественного фантастического произведения, по мнению писателя, — «помочь науке сделать правильный вывод из сегодняшней мечты», — пишет в послесловии к книге кандидат филологических наук И. В. Семибратова.
«Клокочущая пустота», входящая в трилогию романов-гипотез «Гиганты», знакомит молодого читателя с Францией эпохи Ришелье — Мазарини, с удивительными людьми, чей невероятный талант ставит в тупик современных исследователей. В центре романа — образы выдающихся представителей человека мыслящего: поэта и философа Сирано де Бержерака, провозвестника утопического коммунизма Томмазо Кампанеллы, великого математика Пьера Ферма.
А. П. Казанцев пишет не биографическое исследование — автор широко использует право на фантазию, на научно обоснованный допуск. Авантюрно-приключенческий сюжет органично соединен с историческими фактами, в живую ткань эпохи естественно вкраплены научно-фантастические гипотезы. Казанцев стремится придерживаться правды развития характеров героев романа, изображая их людьми «страстными и бескорыстными, одаренными и искренними, одержимыми жаждой знаний и порывами любви, желанием служить добру и людям, переживающими яркие взлеты и горькие разочарования». Но несмотря на то, что автор неоднократно подчеркивает, что образ, скажем, Сирано недокументален, а скорее гипотетичен, на страницах произведения живет, страдает, борется живой человек. Можно с уверенностью сказать, что созданный А. Казанцевым образ Сирано — героя «без страха и упрека», человека, живущего в соответствии с прекрасным девизом: «Мне — ничего, а все, что есть, — другим!» — окажет немалое положительное влияние на юных читателей романа.
Думаем, после прочтения этих страниц читатель еще и еще раз задумается об остроте экологической проблемы, об ответственности за судьбу родной планеты.
Созвучен с произведением А. Гая и рассказ-предупреждение Ю. Леднева и Г. Окуневича «День радости на планете Олл».
Д. Жуков — признанный мастер исторической литературы. Тем приятнее познакомиться с ним в новом качестве. Рассказ «Случай на вулкане», бесспорно, привлечет внимание юных читателей: благодаря таким произведениям и определяется жизненный путь, происходит выбор профессии. Необходимо отметить и мастерское описание Д. Жуковым природы Камчатки.
Отрадно, что лучшие произведения более молодых писателей, еще только начинающих свой путь в фантастической литературе, по уровню литературного мастерства, по масштабности мысли оказываются не ниже произведений известных мастеров жанра. Необходимо отметить очень своеобразный рассказ А. Минеева «Автопортрет», написанный в форме рецензии на творчество художника. Хороша притча «Десять минут в подарок» В. Губина, запоминается рассказ-предупреждение «Тот, кто оказался прав» А. Скрягина.
В то же время нельзя не отметить, что в благородном стремлении оказать помощь молодым авторам, представить в сборнике все направления НФ, составитель «Фантастики-86» местами допустил неоправданное снижение уровня требовательности. Можно объяснить появление в сборнике рассказа В. Малова «Статуи Ленжевена» — написан он достаточно добротно, а то, что эту же идею более четверти века назад использовал И. Росоховатский, автор и составитель могли и не знать (хотя следовало бы). Можно спорить о правомерности включения в сборник рассказов «Великая и загадочная» Н. Дарьяловой и «Дар медузы» И. Дорбы (имеющих, на мой взгляд, весьма отдаленное отношение к НФ-литературе), но, повторяю, об этом можно спорить — границы жанра никем еще точно не определены. Но публикацию весьма слабых произведений «Завтрашняя погода» Т. Непомнящего и «Веланская история» И. Яковлева понять трудно. И дело не в том, что Т. Непомнящий пишет фантастику «ближнего прицела», — в конце концов, любой жанр имеет право на жизнь, кроме скучного. Непомнящий пишет именно скучно и серо. Повесть «Завтрашняя погода» — это заготовка для будущей повести. Невнятность, сумбурность идеи, а то и откровенная пошлость характерны и для «Веланской истории» Яковлева. Вроде эти вещи не определяют лицо, интересного в целом, сборника, но…