Давайте вспомним факты: исландцы прочно обосновались на острове к концу IX века, принеся с собой традиции, обычаи и верования, которые к тому времени, возможно, не были уже абсолютно однородными, так как отчасти подверглись кельтскому влиянию. С другой стороны, еще раз напомним о том, что исландец X века — это прежде всего викинг. Как мы говорили выше (см. Заселение, глава 1), к этому времени викинги уже посетили многие европейские страны и близко познакомились с христианством, многие из них наверняка уже должны были получить предварительное крещение, дающее возможность познакомиться с основами христианского вероучения. В 999 году Исландия единодушно принимает христианское исповедание. Нет никаких оснований подозревать, что этот переход происходил под внешним давлением или допускал нерешительность: анализ религиозной жизни страны с этого момента и до конца XIV века не оставляет, как нам кажется, места сомнениям в серьезном приятии местным населением новой веры. В начале XII века возникает исландская литература: вершина ее расцвета приходится на XIII–XIV века. Вполне очевидно, что авторами всех сохранившихся текстов были или клирики, или светские люди, получившие церковное образование; ими могли быть также ученики известных клириков. Мы не намерены здесь приводить многочисленные примеры, поскольку подобная работа была неоднократно проделана за последние полвека.
Отсюда следует, что наши источники — все наши источники — нельзя считать абсолютно полноценными. Поскольку нам неизвестно, в какой мере авторы, составлявшие кодексы законов, ученые труды и саги, извлекали записанные ими сведения из подлинной местной традиции или же просто занимались пересказом кельтской, греческой и латинской христианской литературы.
В качестве примера упомянем об обряде ausa barn vatni, в ходе которого новорожденного обрызгивали водой, прежде чем официально «признать» его. Являлся ли он некоей имитацией христианского крещения, или здесь следует видеть возрождение архаичного германского обряда?
Саги как будто бы дружно утверждают, что Северная Америка была открыта осевшими в Гренландии исландцами. Очень хорошо. Однако критический анализ этих источников позволяет усомниться в этом факте, поскольку саги противоречат друг другу. Являются ли эти сведения подлинными, или авторы саг просто повторяли модные в то время (конец XIII века) мотивы распространенных в кельтском мире повествований о «высоких духом» или сказочных путешествиях? Так, например, бог Бальдр являлся персонажем двух противоположных легенд: одной, называвшей его красивым, добрым, справедливым и невинным богом, несправедливо принесенным в жертву; и другой, в которой он является воинственным молодцом, соблазнителем женщин и хвастуном. Которая из этих личностей является подлинной? В первом случае мы имеем дело с аналогом Христа, во втором — Ахилла. Ограничимся этим примером, так как список подобных объектов может быть значительно увеличен. Наблюдателя может удивить значимость в древнегерманском религиозном мире всевозможных женских божеств (мы уже говорили об этом мимоходом — см. главу 2); здесь можно усмотреть или особенное распространение культа Девы Марии в XII веке, либо за всеми этими норнами, валькириями, фюльгьями, хамингьями, дисами и т. д. следует видеть возрождение древней Богини-матери, или Великой Богини, которая, как известно, правила миром древней скандинавской религии.
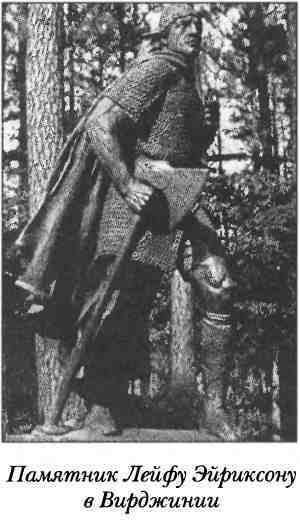
Мы хотели привлечь внимание к этой проблеме, потому что, на наш взгляд, при исследовании древнескандинавского мира следует вооружиться умеренной критичностью. Мы не собираемся отрицать специфичность средневекового исландского мира, в особенности его обычаев, верований или основных обрядов; мы только хотим предостеречь читателя от чрезмерных и слишком скороспелых представлений, поскольку нам кажется, что дошедшие до нас тексты написаны поверх существовавших раньше, и следует научиться читать их между строк… То есть существует вполне реальная возможность выделить и освободить от внешних влияний древнескандинавскую часть обрядов, обычаев и верований.
♦ Рождение исландца
• Посвящение могущественным силам
Мы не располагаем описаниями обрядов, связанных с рождением; для приемлемой реконструкции приходится пользоваться материалами ряда источников.
Женщина рожала, стоя на коленях на утоптанной земле. В случае необходимости ей помогали одна или несколько повитух, которые могли исполнять магические действия, то есть кричать, стенать или произносить заклинания. Таким образом, новорожденный попадал на землю. Возможно, что мать или ее помощница затем поднимали ребенка к небу — к солнцу, которое в германских языках является объектом женского рода, которому поклонялись и которое могло быть основной фигурой пантеона богов, олицетворяя Богиню — упоминавшуюся выше Богиню-мать. Потом ребенка обрызгивали водой, исполняя обряд ausa barn vatni, о котором осталось множество упоминаний. Мы уже говорили, что в отношении него особой определенности не существует, однако здесь выстраивается логический ряд: спуск на землю-мать, подъем к солнцу-матери и обрызгивание водой представляют собой посвящение трем природным стихиям. В любом случае обряд замечательно совпадает с «естественной» интерпретацией древней религии, о которой мы будем говорить позднее (см. Мифология и боги, глава 5).
Возможно, что эта совокупность важных действий определялась волей дис (dises, мн. ч. dísir), богинь многочисленных и малоизвестных, чья древность кажется установленной, так как их название соответствует санскритскому dhisanas. Считалось, что к числу дис принадлежат валькирии и норны, то есть богини судьбы и посмертного упокоения. Подлинность такого представления, по всей видимости, подтверждается тем, что образ сверхъестественной женщины-покровительницы, ответственной за судьбу новорожденного, надолго закрепится на Севере, а также потому, что подобных представительниц женского пола континентальные германские племена в римскую эпоху почитали в облике матушек (matrae, matronae). Их насчитывается около доброй сотни.
• Наречение имени
Обычай этот выполнялся не для того, чтобы помочь ребенку выжить. Через некоторое время после родов к ребенку приходил отец, чтобы признать его своим; этот архаичный обряд еще не до конца исчез из наших обычаев. Отец мог — по самым различным причинам, вплоть до самых вздорных, — не признать новорожденного: в этом случае бедного младенца просто выбрасывали на проезжую дорогу, на растерзание диким зверям или хищным птицам, что называлось útburdr. Такая практика, несмотря на свое варварство, была довольно распространенной по крайней мере в языческие времена, лишь позднее Церковь строго запретила подобные деяния. В эпоху составления саг и поэтических произведений нередко находилась добрая душа, обычно мать, спасавшая ребенка тем или иным способом.
Если отец принимал ребенка, то в знак этого он поднимал его к небу и обрызгивал водой, а затем исполнял крайне важное действие: давал новорожденному имя и объявлял себя его отцом.
Здесь необходимо краткое отступление. Исландская цивилизация — в этом она не оригинальна — не знала фамилий, в которые, как известно, часто превращается прозвище (например, у французов Leroux — Рыжий, Legrand — Большой) или указание на место жительства (например, у французов Dupont — у моста, Dubois — у леса). Человека было принято называть сыном или дочерью своего отца. Эта традиция долгое время оставалась неизменной как в Исландии, так и по всей Скандинавии (случаи наименования по матери происходили крайне редко и в совершенно определенных ситуациях). Таким образом, возникли фамилии Олафссон — сын Олафа (Óláfr) или Сигурдарсон (Sigurðarson), сын Сигурда (Sigurðr), или Бодварсдоттир, дочь Бодвар (Böðvarr), или Освифсдоттир, дочь Освиф. Акт наречения имел чрезвычайно важное значение, поскольку он вводил новорожденного в семью, об особой важности которой для жизни исландца мы уже говорили. Таким образом, ребенок включался в клан, входил в сообщество, признанное и утвержденное многими поколениями.