– Вот вырастешь, Иван, и так, как я, не делай. Торгуй с разбором. Ведь не любая деньга от Бога, не любая в пользу идет.
Однако Иван наблюдал обратное и прекрасно понимал, что ценна каждая копейка, как бы ни была она добыта. Главное – потом «повернуть» ее правильно.
Книжки нравились ему все больше. После закрытия лавки он выбирал ту, что потолще, и, благо хозяин разрешал, открыв ее на любом месте, долго читал. Для хозяина это было сплошным разорением: натуральные стеариновые свечи стоили в ту пору недешево. Но купец мальчонку любил. Да и как не любить – смышленый, работящий, во всем слушается. Своих детей у Петра Николаевича не было, поэтому он частенько ерошил волосы на голове у воспитанника и ласково ему говорил:
– Работай, Ваня, все твое будет.
А паренек был действительно смышленым. Увидев, что дорогущие полные собрания сочинений модных авторов, если вдруг обнаруживался некомплект, резко падали в цене, он изредка стал «припрятывать» отдельные тома. Потом винился хозяину, что у него «украли книгу», честно платил за нее из своего пятирублевого жалования, к примеру, 1 рубль 20 копеек, чуть погодя выкупал оставшиеся тома за 5 рублей, добавлял недостающий том, припрятанный, и все сбывал букинистам-барышникам с Никольского рынка за 15. Полученный доход он не прогуливал, но аккуратно складывал, копеечка к копеечке, а в тяжком грехе обмана (кражей он свои деяния не считал, ведь за все было заплачено) сразу же честно сознавался отцу-духовнику и быстро получал прощение. Хозяев тогда не обманывал только тупой или ленивый.
В 20 лет Иван был определен управляющим нижегородской лавкой Шарапова. Так сказать, директором нижегородского филиала. Торговать в Нижнем тогда было не только выгодно, но и престижно. Город, в котором ежегодно проводилась торгово-промышленная выставка и действовала крупнейшая в мире ярмарка, был поистине центром российской торговли. При прежнем управляющем торговля в лавке Шарапова шла так, ни шатко ни валко. Сказывались огромная конкуренция и отсутствие широкого спроса на лубок. Поэтому первой и главной задачей нового управляющего, которого теперь называли Иваном Дмитриевичем, было налаживание рынка сбыта.
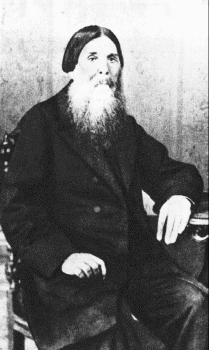
Задачу удалось решить на редкость красиво. Придя к выводу, что торговать народным лубком в образованном и богатом городе неразумно, новгородский наместник Шарапова создал на волжской земле прообраз того, что позже назовут многоуровневым маркетингом, а он назвал просто «сетью офеней». «Офенями» были мужики, преимущественно водоносы, которым Иван Дмитриевич давал лубки в долг, под честное слово. Сначала давал помалу, до тех пор, пока не убеждался в честности начинающего торговца. А те несли культуру в массы, то есть по деревням, по селам и по чумацким лагерям. Дней через пять они сбывали товар и возвращались за новой партией. Наиболее удачливые получали специальные скидки и обзаводились своими «сетями», которые распространяли товар и в таких далях, куда не мог дойти ни один купец. В короткий срок рядовая новгородская книжная лавка превратилась в крупный оптовый склад полиграфической продукции. Постепенно прогрессивная технология перешла из филиала в московское торговое заведение. Перешла вместе с управляющим.
К тому времени молодому «менеджеру» исполнилось 25 лет. Самое время для того, чтобы обзавестись семьей, что он и сделал с выгодой для себя. Невеста была выбрана с богатым приданым, а разрешение на венчание и благословение было испрошено у благодетеля Петра Николаевича Шарапова. Иван принял от него также богатый свадебный подарок, а еще помощь в получении банковской ссуды на открытие собственной литографии, то есть печатного предприятия. Шарапов поручился за Ивана своим капиталом и сам дал в беспроцентный долг значительную сумму.
19 декабря 1876 года в Москве заработала первая литографическая мастерская Ивана Дмитриевича Сытина.
Печатное дело
Основным заказчиком литографии был Шарапов, торговое предприятие которого, благодаря стараниям управляющего, процветало. Да-да, управляющий-то не сменился. Иван Сытин теперь работал на два фронта. До вечера он сидел в лавке, а в 6 часов, когда хозяин уходил на вечерню, бежал в свою (расположенную поблизости) печатную мастерскую и там собственноручно резал и печатал с камня картинки.
Через год началась Русско-турецкая война. Народ скупал газеты и зачитывался сводками боевых действий. На ура шли картинки, изображавшие бравых русских воинов с лихо закрученными усами и с шашкой наголо. Но конкуренция оставалась сильнее спроса, и сытинские картинки, хотя и были весьма высокого качества, раскупались не особо быстро. Зато пошли карты. Не игральные, а карты боевых действий. Из всех российских печатников именно Сытин первым догадался, какой доход можно извлечь из этой нехитрой и на первый взгляд довольно скучной полиграфической продукции. Целый год, на протяжении которого шла тяжелая для России война, Иван Дмитриевич Сытин был практически монополистом в деле печатания военных карт. Дело оказалось настолько выгодным, что спустя год он полностью рассчитался со всеми долгами, хотя планировал сделать это за пять лет.
Имя молодого печатника запомнилось, что не могло не сказаться на прибыли литографии. В 1879 году предприниматель купил себе домик на Пятницкой улице, куда и переехал вместе с семьей и литографией.
Однако война кончилась, и пора было искать новое место приложения сил. Сытин начал издавать бульварную литературу. На Никольском рынке большим спросом пользовались леденящие душу детективы и слезливые мелодрамы из полусветской жизни. Авторы низкопробных произведений, поэты и писатели, обивали пороги кабинетов, предлагая издателям за копейки свои труды. Часто под видом собственных сочинений они приносили переписанные и слегка исправленные творения других литераторов. Так, в продаже можно было встретить «Князя Золотого», в котором без труда угадывался «Князь Серебряный», или «Месть колдуньи», подозрительно смахивавшую на «Вия», или «Страшные игры», списанные с «Пиковой дамы». Издатели, работавшие для Никольского рынка, сами книг никогда не читали, разве что смотрели заголовки. Случались осечки и у Сытина. Известен случай, когда начинающий издатель выпустил в свет книжку некоего Власа Дорошевича, оказавшуюся на поверку сборником рассказов Гоголя.
В 1882 году Сытин получил свою первую бронзовую награду «за высокое качество продукции» на Нижегородской промышленной выставке. Это была максимальная награда из тех, на которые мог рассчитывать выходец из крестьян. На выставке лубки Сытина впечатлили даже академика живописи Михаила Петровича Боткина, который предложил Ивану Дмитриевичу попробовать себя в деле массового тиражирования творений великих мастеров кисти. Дело это было для предпринимателя новое, неожиданное, никем еще не опробованное и потому представлявшееся интересным. Оно принесло Ивану Дмитриевичу Сытину не только деньги, но и новую славу – славу интеллектуального издателя.
Просветительство
В феврале 1883 года Сытин с группой товарищей зарегистрировал книгоиздательское товарищество «Иван Дмитриевич Сытин и Ко» с уставным капиталом 75 000 рублей. Спустя несколько месяцев он открыл свою первую лавку у Ильинских ворот.
До 1883 года в России правом печатать календари обладала лишь Академия наук, а с 1884 года это право получили все. И Сытин поспешил им воспользоваться. «Всеобщий русский календарь на 1885 год», стоивший не дороже обычной брошюры и наполненный сведениями из самых разных областей жизни, произвел фурор на очередной Нижегородской промышленной выставке. С тех пор календари стали своеобразной визитной карточкой сытинской фирмы. К 1893 году она контролировала 50 % этого рынка в России и издавала в год до 15 наименований календарей, среди которых были крестьянские, старообрядческие, церковные, военные, купеческие, домовые, медицинские. К концу века общий тираж выпускаемых в сытинских типографиях календарей достиг сумасшедшей по тем временам цифры – 3 700 000 экземпляров.