За месяц до этого Комиссаржевская дала интервью журналисту Н. Тамарину, которое было напечатано в журнале «Обозрение театров». Она ещё раз декларирует свой отказ от «реального воспроизведения быта» и утверждает необходимость направить театр по новым путям. Пути эти, однако, она описывает крайне туманно, метафорически. Например, так: «Быт должен теперь исчезнуть со сцены, уступив место такому творчеству, которое должно затронуть ещё неизведанные глубины человеческого в божественном и божественного в человеческом»[410]. Возникает ощущение, что сама Комиссаржевская не очень точно представляет себе, каковы, собственно, те новые пути, по которым непременно должен двигаться театр, и как они связаны с тем, что составляет теперь труды и дни самой актрисы и её ближайших сотрудников: «Я сама замечаю, что только постепенно вырабатываю в себе чувство стиля, ритма, настроения данной пьесы и роли. Я иногда мучительно подхожу к тому, что чувствую, понимаю, но не могу ещё достаточно ярко выразить»[411]. Отдавая себе в этом отчёт (Комиссаржевская всё время говорит о своей бессознательной потребности вырваться из традиционных рамок), она полностью полагается на режиссёрский дар Мейерхольда. В её словах звучат безграничная вера в его талант и полное доверие его поискам: «Когда я узнала о начинаниях в Москве г. Мейерхольда, которому только неблагоприятные случайные обстоятельства помешали создать своеобразный театр “Студию”, я начала с ним ещё прошлой весной переговоры и убедилась, что это чуткий, образованный и страстно ищущий новых форм в искусстве человек. Несправедливы упрёки ему в том, что он деспотически насилует артистические индивидуальности. Наоборот, он поощряет всякую самостоятельную инициативу в артистах»[412].
Интересно, однако, что при такой восторженной оценке деятельности Мейерхольда и его личности Комиссаржевская отправилась в гастрольное турне преимущественно со своим старым репертуаром. Она объясняла это трудностью в перевозке декораций, но это, очевидно, была отговорка, потому что некоторые новые вещи всё же участвовали в гастролях, например «Гедда Габлер». Г. И. Чулков, друг Мейерхольда, представлявший «левое» крыло театральной критики, один из идеологов и творцов символизма, писал: «Мы теперь все знаем, как трагически кончилась эта встреча двух даровитейших, но столь непохожих друг на друга людей, Мейерхольда и Комиссаржевской. Моё положение как театрального критика стало весьма затруднительным. Все почему-то ждали, в том числе и сам Мейерхольд, что я буду трубадуром нового театра. Но при первых же сценических опытах Мейерхольда душа моя раскололась. С одной стороны, я не мог не чувствовать, что здесь, на Офицерской, театр нашёл, наконец, свою настоящую театральную форму. Все эти “Александринки” и “Суворинские театры” сразу стали чем-то жалким и провинциальным по сравнению с нарядными и смелыми спектаклями Мейерхольда. Но, с другой стороны, я не менее реально почувствовал, что этот новый путь в искусстве не тот мне желанный путь, о котором я мечтал. Я почувствовал в театре Мейерхольда привкус безответственного декадентства и экспериментализма, которые были так характерны для московских эстетских кружков и журнала “Весы”. Но Мейерхольд “закусил удила”. Упоенный возможностью распоряжаться покорною ему труппою и всем аппаратом доставшегося ему театра, он не терпел уже никакой критики. Мои рецензии, которые всем казались весьма лестными для Мейерхольда, ему, напротив, казались недостаточно хвалебными. И он, и его поклонники обижались на меня. А между тем я сознавал, что доля ответственности за этот опасный опыт с новым театром лежит и на мне. Я видел, как личность актёра приносится в жертву эффекту зрелища, и согласиться с этим декадансом никак не мог. Особенно меня пугала судьба такой дивной актрисы, как В. Ф. Комиссаржевская, которая, как птица в сетях, билась в сценических условиях, созданных Мейерхольдом. Правда, иногда Мейерхольд отступал несколько от излюбленных им приёмов и освобождал от своих пут актрису. Так это было в возобновлённой им постановке “Кукольного дома”, и я, обрадованный, в своей рецензии старался доказать, что В. Ф. Комиссаржевская в новых сценических условиях чувствует себя “свободнее и окрылённее”, но эта постановка была вовсе не характерной для тогдашней художественной программы Мейерхольда»[413].
В переписке между Мейерхольдом и Комиссаржевскими весны и лета 1907 года чувствуется нарастающее взаимное недовольство, пока ещё не принимающее резких форм. Ф. Ф. Комиссаржевскому Мейерхольд пишет: «Какую ужасную ошибку сделала В. Ф., что она поехала по России со старым репертуаром. Это её компрометирует как вставшую во главе Нового Театра»[414]. Мейерхольд настойчиво рекомендует взять в труппу театра новую актрису В. А. Петрову, работавшую с ним в «Студии» и после её развала оставшуюся не у дел, — Комиссаржевская от этого предложения отказывается и выбирает другую актрису. Как это не похоже на то, что происходило ровно год назад, когда каждое слово Мейерхольда принималось Комиссаржевской с благоговейным послушанием! «В. Ф., по-видимому, с каких-то пор перестала считаться с моими советами»[415], — с горечью замечает Мейерхольд. В его письме Комиссаржевской звучит прямой упрёк в недостаточном внимании с её стороны: «У меня накопилось много-много поговорить с Вами о будущем нашего театра, много планов, интересных, легко осуществимых. Напишу Вам, если напишется, но скажу при свидании непременно. Впрочем, Вы мало со мной говорите. Пожалуй, скажу: не без некоторой охоты слушаете меня, но кажется мне, что всё, что говорю, не глубоко ложится в душу, а главное — больно, что Вы мне мало говорите. Вы только рассеянно слушаете меня»[416].
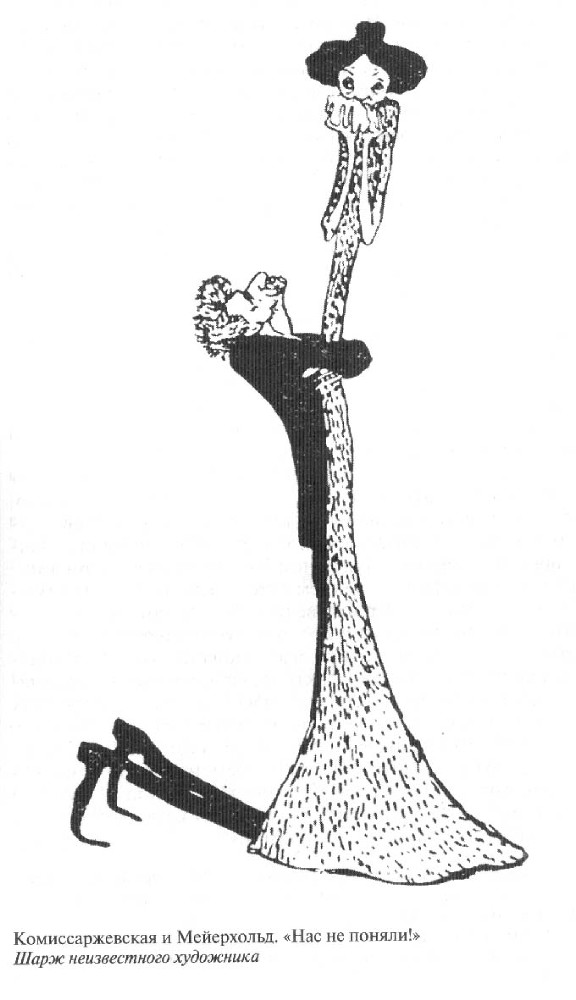
Комиссаржевская ответила на мартовское письмо Мейерхольда только в июле. «О будущем нашего театра» в её письме почти ничего нет, хотя она обещает продолжить этот разговор при личной встрече. Зато много сказано о недавнем прошлом. В частности, среди абстрактных соображений о творчестве Ибсена и Метерлинка Комиссаржевская замечает: «Помните, при постановке “Гедды Габлер” я говорила, что её ремарки должны точно выполняться. Теперь я совершенно определённо говорю, что правды в моих словах было тогда больше, чем я сама это предполагала. Каждое слово ремарки Ибсена есть яркий свет на пути понимания его вещи»[417]. Это, конечно, камень в огород режиссёра, чьё прочтение пьесы теперь, по прошествии времени, кажется ей неверным, не соответствующим авторскому замыслу. Дело заключается не в том, конечно, что Комиссаржевская свято чтит авторский замысел. Она сама как актриса не раз уклонялась в сторону от того, что хотел сказать в своей пьесе автор. Но вот права режиссёра на интерпретацию, собственный взгляд и прочтение, возможно, очень далёкое от авторского, она пока ещё не может признать. И — явно становится на сторону Ибсена, а значит, и на сторону тех критиков, которые возлагали всю ответственность за неудачу «Гедды Габлер» на Мейерхольда.
Заканчивается письмо Комиссаржевской характерным замечанием относительно «Кукольного дома»: «О “Норе” хочу сказать следующее: необходимо изменить колорит комнаты и сделать её тёплой и больше ничего. Я думаю, что добиться этого совсем легко: изменить цвет и свойство материи, положить мягкий ковёр (чтобы не было слышно шагов), заменить стулья чем-нибудь мягким и низким, и сбоку надо дать в последнем акте красный цвет (от камина), чтобы Линда и Крогст вели сцену не при холоде лунного света. Впечатление должно получиться очень тёплого, уютного мягкого гнёздышка, изолированного от настоящего мира»[418]. Это означало фактически вернуться к первоначальному оформлению спектакля в «Пассаже», которое как раз и преследовало такие цели. Замечательно простодушно пишет об этом в своих воспоминаниях плотник Драматического театра В. Хвостов: «Для того времени оформление нашего театра было очень реалистическим. Когда в “Кукольном доме” Нора приходила с ёлкой, то казалось, что она действительно пришла к себе домой»[419].