Исповедь эту, только по-другому перемешанную, худенькая женщина уже слышала, все до мелких черточек выспросила — и про бриггов, и про порчу, и про приспешника, и про ревнителя, и поэтому сейчас никаких вопросов не задавала. Зарываясь лицом в мокрый платочек, она только ужасалась рассказу, в который бы и не поверила, не знай доподлинно, что приспешник в каземате, и не будь сама, птичница Ия с маленькой фермы в провинции
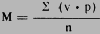
, включенной в венок терцетов, расследующий дело о порче кормов и массовом заражении граждан желудочными болезнями. Ужасалась она безысходности и безнадежности, которыми мертвенно тянуло от этой расплющивающей глыбы, неотвратимо наваленной на слабеющую женщину, наваленной безжалостно и расчетливо, так, чтобы уж не высунуться ей нигде, не выпростать руки, взывающей к милосердию. Кто навалил глыбу — в том Ия не сомневалась и без повторной исповеди. Хотя в слова свое стойкое ощущение не отливала — это пугало, рвало твердь из-под ног. Она просто видела перед собой образ того, кого никогда не видела — наставления в синклите провинции получали лишь старшие терцетов, — и точно знала, что это он сам, именно сам, а не какие-то там холуи-подручные — перепоручишь такое щепетильное дельце — наплодишь осклизлых свидетелей, — именно сам взял бумагу-многоразку, помараковал над ней, вздрагивая при каждом шорохе, хотя всех выпроводил из культового здания, изложил без подробностей историю приспешника, придумал ловкие обвинения для Аи — про месть, небось, его гордость, — отбил текст на компьютере, личном или служебном — кто сунется проверять? — и отправил его на свое же имя из соседнего городка, смотавшись туда на другой день мало ли по какой официальной надобности. Никаких доказательств такому ви́дению Ия не имела и добывать их не собиралась, ей было довольно посидеть вот так, вдвоем с кормовщицей, вникнуть в ее беды через сбивчивые исповеди, вслушаться в интонации и всхлипывания, вглядеться в зареванные, но ясные глаза, наконец, вместе поплакать, так по-разному, беззвучно и в голос, ровно и пересменно, но в сущности и одинаково, — всего этого было ей вполне достаточно, чтобы определить, как нужно поступать.
Она встала, промокнула слезы набрякшим платком — сперва наскоро себе, потом, расправив его, и уже старательно, Аи, отчего та снова захлебнулась рыданием, шепнула заговорщически: «Надейся!» — погладила ей плечо и торопливо вышла на волю, в предвечернюю прохладу, загустевшую от запахов цветочных деревьев и разнотравья…
Старшую своего терцета, пищевого инспектора из какого-то города, Ия разыскала на забивочной ферме-автомате, где Еу допрашивала угрюмца управляющего. Покрутившись по мерно жужжащим цехам, которые с одного торца загружались живой продукцией — бриггами, свозимыми в клетках-воздухоплавах с откормочных ферм, — а другим непосредственно смыкались с автоматами фасовочной фермы, Ия дождалась, когда старшая освободилась, и пристроилась к ней на аллее, ведущей к гостиничным коттеджам.
— Два дня выпытывала, по всем закоулкам приспешницу гоняла, ничего не позволила утаить! — затараторила Ия, изо всех сил хитря в тщательном выборе слов, которые, как ей чуялось, должны понравиться собеседнице. — И все закрома облазила, и все корма обнюхала, и на зуб попробовала. От меня плутни не спрячешь, я всякую утайку найду — вон сколько годов птицу ращу!
— Потому и в терцете ты, Ия, — одобрительно покивала старшая. — Твои находки — самые ценные. — Еу взяла птичницу под руку, вполголоса спросила: — На чем прихватила?
— Она говорит: я уже все рассказала да все показала, а я ей: нет, говорю, давай все сызнова, а сама думаю: сейчас ты собьешься, что-нибудь по-другому скажешь, я тебя и поймаю, а закрома-то одна, без тебя, еще разок облажу, зачем ты мне там сдалась, без тебя и получше даже, не отведешь от греха…
Птичнице едва хватило воздуха, чтобы вывалить этот словесный жмых, не дав Еу глотнуть желанного фактурного настоя.
— Что ты нашла? — Локоть Ия был крепко сжат.
— Все до крошки! Я ж говорю, и ей и тебе: никто свои поганки от меня не зароет.
Теряя терпение, но приписывая пустопорожность разговора сельской болтливости и бестолковости, Еу приказала:
— Придем — сразу опишешь преступления Аи и принесешь мне. — Поощрительно улыбнулась: — Ты ведь нашла доказательства ее вины, Ия?
— Нашла! — Птичница высвободила руку, остановилась. Она понимала: ответить надо так, чтобы в предубежденную терцетчицу хотя бы вползли сомнения. Но как это сделать? — Нашла доказательства! — внятно повторила Ия, укладывая руки на плечи инспектора и слегка встряхивая. — Только не вины Аи, а ее безвинности! Полной безвинности! Дошло? — И тряхнула посильней, чтобы дошло наверняка.
Еу отступила, пристально изучая двинувшуюся на нее птичницу. В желании прояснить, кто перед ней — простушка или противник, поучила:
— Прежде чем что-то брякнуть, в городах сначала думают. На фермах не принято?
— На фермах не приняты подлости — ни в делах, ни в бумажках! — с неведомой самой злостью наступала Ия.
— Ах, вон оно что! — поставила окончательный диагноз старшая терцета. Контрольно, для проформы переспросила: — Значит, жена осужденного, владелица кормохранилищ Аи болезнетворных бактерий не выводила и никому не мстила?
Хватаясь за ускользающий шанс, Ия стиснула костистые кулачки:
— Я и закрома, и душу ей вывернула! И закрома чисты, и душа чиста! Можешь понять?
— Уже поняла! — миролюбиво улыбнулась Еу. — Что ж тут не понять? — И, помахав птичнице, быстро пошла к коттеджам.
Придя в свой стилизованный под старину номер, она зажгла свет, задернула штору и присела к бюро.
— Та-ак, — протянула она вслух и, взяв из стопки листок, принялась писать.
С непривычки это занятие оказалось мучительным — слова не подыскивались, фразы не склеивались, вычерки и вписки множились. Получилось так:
«Кто в нашей бригговой провинции не знает преступную кормовщицу Аи, жену осужденного вымогателя! Но почему-то в терцет по ее разоблачению не включили местных селян, которые давно знают, что из мести она и убить может. Зато привезли птичницу, которую преступница сразу же подкупила деньгами, награбленными приспешником. Вот эта Ия и не нашла ни плесени, ни другой отравы, от которой болеют благородные трафальеры. Бриггеры со всех ферм видели, как спевшиеся птицы, местная и залетная, неразлучно прыгали по закромам или сидели рядком на одной жердочке в богатом гнездовье Аи. И все шептались, шептались… Налицо преступный сговор! До каких пор пособница кишечных болезней будет на свободе? Мы, честные бриггеры, требуем, чтобы синклиты обеих провинций образовали терцеты для раскрытия ее злодейств — здесь и на месте проживания! Поэтому направляем крик удушаемой, но еще живой правды в два адреса».
Перечитав сочинение, Еу сказала, пронизывая штору льдистым прищуром:
— С ослушниками — только так!
И, спохватившись, приписала наверху: «Сообщаем важные сведения».
17
— Господин Гл? От домашних забот вас отрывает некто Тм, управляющий транспортом фирмы «О+С». Если вы дотронетесь до кнопки «изо» на своем видеофоне, то, возможно, узнаете меня в лицо: мы оба были включены в венок терцетов по знаменитому делу об ущербной технологии…
— …и встретились в синклите Е2 на теперь уже тоже знаменитом инструктаже, проведенном самим ревнителем веры. Да, я узнаю вас, господин Тм, вы давали пояснения о грузовозах для «Братьев Бл»…
— Я уже забыл, как они выглядят, мои любимые силачи.
— Немудрено. Судя по экранному заявлению державников и вою, поднятому ежедневками вокруг доктора Сц, ваш венок круглосуточно пытал его по классической — не ущербной! — технологии древних.
— Не обижаюсь на вашу язвительность, хотя персонально я заслужил ее в наименьшей дозе: не повредил вице-президенту более, чем тогда, в синклите, констатировав предоставление ему техники; и в прочих терцетных обязанностях был предельно пассивен.