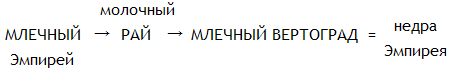Стихи: «И в вечных недрах Эмпирея <…> Ты внидешь в млечный вертоград» — включают в себя идею пространственно-временной протяженности, которая может быть условно представлена как постепенное перетекание одного пространства в другое: шествуя по млечному пути Эмпирея, ты достигнешь его недр и внидешь в райские долины, где текут молочные реки. Первым шагом метафоризации становится своеобразное «сжатие» локусов:
Вторым шагом — перенесение признака одного пространства на другое[*]:
Словосочетание млечный вертоград не просто и не только поэзия — это своеобразный и уникальный по точности топоним (черта, особенно отличающая словоизобретения Боброва), вобравший в себя весь комплекс культурных и мифопоэтических представлений, связывающий эти два слова. Вертоград — это и небесный сад, и вечный город, небесный престол, окруженный золотой стеной. Скопление звезд, Млечный путь — а для греков Млечный круг — это тот предел, к которому в своем восхождении стремится душа: «Такая жизнь — путь на небо и к сонму людей, которые уже закончили свою жизнь и, освободившись от своего тела, обитают в том месте, которое ты видишь (это был круг с ярчайшим блеском, светивший среди звезд) и которое вы, следуя примеру греков, называете Млечным кругом» (Цицерон)[188].
Генерирование новых смыслов, граничащее с поэтическим откровением, лежит в основе метафорического языка С. Боброва.
II
Рассмотренные приемы образования метафоры помогают проследить трансформацию эмблемы в метафору на более широком текстовом материале, как, например, отдельный текст (ода) или группа текстовых фрагментов, складывающихся в некое тематическое единство, своеобразную рубрику. В основе той или иной рубрики лежит поэтическая мифологема — Вечность, Земля, Мир, Время — или — Россия, Петр, Флот и т. д. Для примера остановимся на двух из них: Мир (покой) и Флот.
1. МИР
Если Брань/Война в одической лирике XVIII в. устойчиво персонифицируется в образ Марса (реже Беллоны), то богинь, олицетворяющих мирную жизнь, значительно больше. Для Боброва это Цибела (Земля-Природа), Помона (богиня садов и плодов), Церера (богиня земледелия) и его собственное изобретение — дева, «знак Августа месяца». Описывая окончание войны и установление мира, Бобров, как правило, открывает картину традиционной аллегорической заставкой: Природа ликует, Марс спит среди снопов:
Все тихо; — нет ни бурь, ни брани
Между Беллониных сынов;
Помона плещет в белы длани;
И Марс храпит среди снопов. (I, 90)
На мягком лоне девы той <…>
Уснул он в теж часы блаженны
И скрыл чело в густых снопах… (II, 31)
Пусть маслина покроет взор!
Пусть ляжет Марс между снопами! (I, 31)
Он спит; — Церера не вздыхает <…>
Она зовет к себе Морфея,
Дабы он бога усыплял,
И средь пушистых недр лелея,
Его сном вечным обуздал. (II, 33)
Уже кумир сей ада спит <…>
Он спит; — геенна с ним храпит
Во глубине косматой нивы. (I, 102)
Однако в ходе развития сюжета аллегорическая ткань теряет свою знаковую стабильность, нарушается однозначность входящих в нее элементов. Традиционные атрибуты Цереры, серп и пук колосьев/сноп[*], попадая в художественное пространство батальных сюжетов Боброва, берут на себя символические функции атрибутов Войны. Происходит это тогда, когда антитезу Мира и Брани Бобров усиливает объединяющим эти два сюжета понятием жатвы (золотая жатва — кровавая жатва):
<Марс> Златую жатву попирает,
И топчет тучный злак в лугах,
Где зря Церера след строптивый,
Что бурный бог проторг сквозь нивы,
Звенящий вержет серп в браздах. —
За ним Ирой меж смертями,
Как пчел рои меж роз летят,
Мечьми махая, как серпами,
К ужасной жатве все спешат.
(II, 9)
Если атрибутами «златой жатвы» являются «тучный злак» и «звенящий серп», то при ее трансформации в «жатву» войны значение серпа передается мечу, а снопа колосьев — «снопу копий» («Где копий сноп?» — I, 103).
Соответственно, при обратном преобразовании (в сюжетах, описывающих окончание войны и воцарение мира), атрибутам Марса передаются свойства атрибутов Цереры. Так, символом превращения войны в мир становится меч в функции серпа или плуга:
… — где меч широкий?
Он нивы меряет предел,
На ниве режет след глубокий…
(I, 103)
В подвижной поэтике этой рубрики так же скользит и множится значение второго атрибута Цереры. «Густые снопы», «тучный злак», «пук колосьев зрелых» соотносятся не только с идеей изобилия, но и с образом животворящей влаги, питающей всходы. Отсюда эпитеты «глубокая трава», «косматая нива», «пушистые недра», «мягкое лоно». Одновременно все это — символические характеристики «мирного» пространства, в которое перемещается на отдых бог войны («И Марс храпит среди снопов», «во глубине косматой нивы»). В державинском варианте этой эмблемы снопы заменены туманами:
Небесный Марс оставил громы
И лег в туманы отдохнуть.
Для Боброва важен весь смысловой диапазон образа. «Туманы» в этом контексте объединяют для него несколько пересекающихся друг с другом значений: с одной стороны, это такой же атрибут осени, как и снопы —
Весы
[*] на равных чашах взвесят
В одной снопы, в другой туман, (IV, 80) —
с другой — остужающая «ратный огонь» влага —
Пусть ляжет Марс между снопами!
Пусть гром отдохнет меж парами… (I, 31)
Ср.:
Сам Зевс багреющей десницей
Не мещет в раскаленный свод
Катящихся громов с зарницей <…>
Со громоносной птицей он
Свившись во облаках дождящих,
Возник почить на тихий трон.
(I, 103)
Вместе с тем влага тумана, остужающая «бурное дыхание» бога войны, функционально соотносится Бобровым с сочной влагой нивы, которая так же, как и туман, тушит «ратный огонь»:
Он спит <…>
Во глубине косматой нивы;
С ним молкнет потушенный гром.
(I, 102)