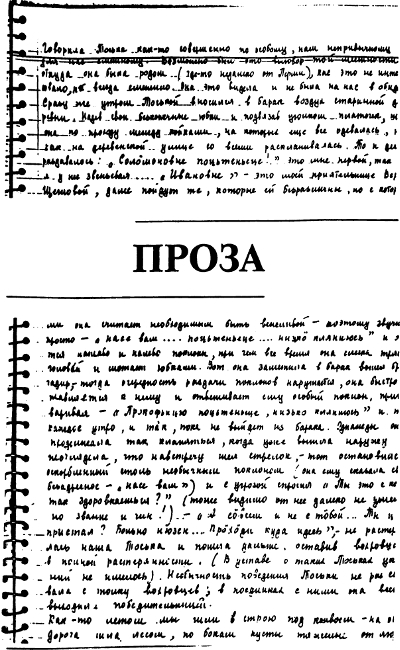Пока существуют такие понятия, как память, сознание, совесть, так называемая лагерная тема, тема надругательства и насилия могущественного и всеоружного государства над человеком, безвинным и беззащитным, любым и каждым, не может, не должна исчерпаться, иссякнуть, умолкнуть в наших памяти, сознании и совести, — и никуда из них не уйдет. Это не только потому, что лагерь был воистину адом, в котором происходило сатанинское попрание обезумевшим государством всех Божьих заповедей и нравственных законов для унижения и уничтожения человеческой личности и плоти, когда государство предстало перед всем миром в зверином обличии преступника и убийцы, подлежащего суду и каре. В то же время, и это, может быть, самое страшное, лагерь — это еще и нечто повседневное, обыденное, привычное, будничное, уравнивающее жертву с палачом, отнимающее надежду на возможность суда и возмездия, — бесовщина, жестокость, ложь, ставшие бытом, нормой, воздухом нашей жизни по обе стороны огороженной проволокой зоны. Даже те из нас, кому посчастливилось прожить свой срок, не побывав в лагере, никуда от него не денутся. Лагерь вошел в наши кровь и мозг, стал частью нашей жизни. Наши любимые барды, даром что в лагерях не сиживали, подлаживаясь под лагерников, блатными голосами выкрикивают-выхрипывают песни, которые могли возникнуть только в лагере или после лагеря, и мы подхватываем эти песни, с упоением повторяем их дурные слова. Лагерная мораль — «умри ты сегодня, а я завтра» — все чаще и больше определяет наши поступки и действия. Да и разговариваем-то мы уже давно не на том русском языке, какому нас учили в школе, на каком говорила великая и святая русская литература, а на том, на каком говорят в лагере. Нынче у нас и книги пишутся, и журналы выходят на этом языке.
Конечно, и в лагере были свободные люди. Я знал некоторых из них, я даже с уверенностью думаю, что в лагере их было больше, чем на воле, — честь им и хвала и вечная слава! Своей внутренней свободой они отгораживались от лагерного ада, не принимая его звериных законов. Их тоже убивали, но превратить их в рабов было невозможно. И все-таки как мало их было! Когда Александр Солженицын писал «Архипелаг ГУЛАГ», он думал, что люди, прочитавшие эту книгу, уже не посмеют оставаться равнодушными, что, узнав об аде, они восстанут на него и постараются сделать все возможное, чтоб этот ад не вернулся, даже если ради этого придется отдать свои жизни. Александр Исаевич переоценил соотечественников, и с появившейся возможностью прочитать «Архипелаг» всем россиянам равнодушных что-то не убавилось. Вот и позорная власть КПСС рухнула, и лютой власти КГБ не стало, и, говорят, демократия у нас восторжествовала, но не оставляет меня смутное чувство, что и это все случилось с нами не по Божьей воле, да и не по-людски, а тоже как-то чуть ли не по-лагерному, чуть ли не по установке какого-то неведомого самодурствующего начальства. Во всяком случае, никогда еще наша жизнь не была так похожа на лагерную, как сегодня, — с бесстыжим празднованием разбогатевших на всеобщей беде и с нищетой отчаявшихся и ожесточающихся бедняков, ограбленных государством, с только-только вылупившимся, но уже почуявшим свою силу и наглеющим от нее родимым русским фашизмом, с наркоманией и порнографией, с заказными убийствами и астрологическими прогнозами, с атаманской плеткой и публичными домами под все это осеняющими зловещими и зловонными крыльями старого знакомца — двуглавого орла.
В послесловии к своим «Колымским рассказам» Варлам Шаламов писал: «Автор тысячу раз, миллион раз спрашивал бывших заключенных — был ли в их жизни хоть один день, когда бы они не вспоминали лагерь. Ответ был одинаковым — нет, такого дня в их жизни не было». Должен сказать, что Варлам Тихонович ошибался. Я как раз тот бывший заключенный, который, как только вышел на волю, ни разу не вспомнил лагерь. Правда, мой лагерный опыт ни в какое сравнение с шаламовским не тянет: у меня и срок был смехотворный — пять лет, с 1946-го по 1951-й, и лагерь не тот — не Колыма, а Кировская область, Вятлаг. Но и мой юношеский идеализм был, оказывается, надежной защитой от зла и мерзости лагерного быта, сущности моей они не коснулись. Но моя «незадетость» лагерем не имеет ничего общего с равнодушием к лагерной теме, с нежеланием впустить ее в свою, и без того не особенно благополучную, жизнь. Вот почему я считаю, что тема эта не может не волновать человеческие души.
ПРОЗА
Георгий Демидов
Георгий Георгиевич Демидов, 1908–1987. Раздвинем две эти неизбежные даты, заглянем в судьбу…
Родился в Петербурге, в рабочей семье. Рано проявил способности к технике, изобретательству, стремительно прошел путь от рабочего до инженера и доцента электротехнического института. Друзья сулили ему, ученику Ландау, блестящее будущее ученого-физика.
В 1938 году он был арестован в Харькове, где тогда работал, — вызвали якобы для проверки паспорта; эта «проверка» затянулась на восемнадцать лет. Следователь пригрозил арестом жены с пятимесячной дочкой, и Демидов подписал показания на себя как троцкиста, участника контрреволюционной террористической организации, наотрез отказавшись назвать еще кого-нибудь. Итог — исправительно-трудовые лагеря.
Четырнадцать лет на Колыме, из них десять — на общих, самых тяжелых работах. Человек с твердым характером и многосторонним интеллектом, он и выжил-то благодаря своему высокому духу. Не имей он в себе этой «подъемной силы», остался бы колышком с номером на устланных костями сопках Колымы.
Демидов писал:
<b>«Даже совершенно не способный к наблюдению и сопоставлению человек не может не постигнуть трагедийности этого “Освенцима без печей” — выражение, за которое, среди прочего, я получил в 1946-м второй срок».</b>
Вскоре после того как там, в лагере, он был вторично осужден, жене Демидова пришла телеграмма о том, что ее муж… умер. Телеграмму отправил он сам и причину этого открыл позднее в письме дочери:
<b>«Бедная моя дочурка! Я был тогда в страшной дали, в огромной мрачной стране — тюрьме. Я не надеялся когда-нибудь выйти из этой тюрьмы. Был уверен, что погибну в ней. Мне показалось, что я только немного опережаю события, прикидываясь мертвым. Делал это я для того, чтобы избавить тебя и маму от своего существования, которое я считал для вас вредным… Ее мне обмануть не удалось».</b>
В центральной больнице УСВИТЛа Демидов встретился и подружился с фельдшером из хирургического отделения — Варламом Шаламовым, который называл своего друга одним из самых «умных людей, встреченных на Колыме». Демидов — прототип героя шаламовского рассказа «Житие инженера Кипреева», ему посвящена пьеса Шаламова «Анна Ивановна». Потом дороги их разошлись, чтобы спустя много лет снова пересечься, когда оба после освобождения обнаружились — Шаламов в Москве, а Демидов — в Ухте. Завязалась переписка, возобновилось общение.
Оказалось, что Демидов тоже запечатлел свой крестный путь в слове. Это, по его признанию, была попытка начать жизнь во второй раз и с нуля. Писал, урывая редкое свободное от работы на заводе время. Ночами стучал на машинке — сломанные в лагерной шахте пальцы не сгибались и не держали ручку. «Мне мое творчество обходится очень дорого, — говорил он. — Я неизбежно дохожу до болезни, хотя далеко еще не развалина… Все спрашивают: что-нибудь случилось? Я мог бы ответить: да, случилось. Совсем недавно. Нет еще тридцати лет. И случилось не только со мной…»
Сложность задачи, которую он перед собой ставил, сам Демидов прекрасно понимал — понимал со всей беспощадностью к себе. Из письма Шаламову: