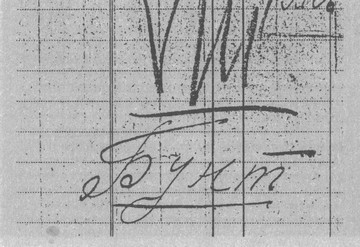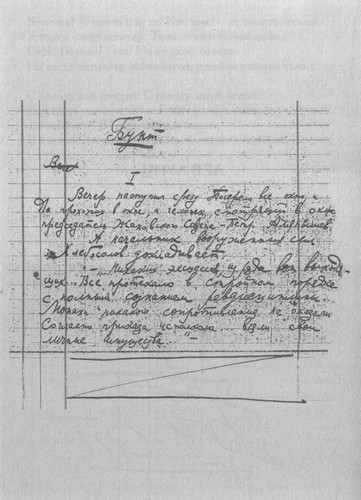— Па-а-па! Папа! Папа!
Серенький, маленький такой язычок выглянул через дверь: здравствуйте. Это пришел огонь. И слава Богу! Только скорей, ради Бога, скорей. Я не могу больше вынести этого крика!
И схватив кольт, Аляпышев трижды выстрелил в сына. Три раза стрелял в упор с двух шагов и три раза промахнулся. И пронзительный тоненький крик креп, рос, пронзал насквозь и жужжал, жужжал…
И осталось одно: убить себя.
Но чем убить? В комнате, окруженной огнем, держа в руках заряженный кольт, Аляпышев не знал, чем убить себя. И, бросив по землю образ, он повесился на том самом крюку, на котором висела икона.
А на улице шумела толпа. Но как ни хохотала она, как ни кричала, еще сильней был сверлящий, тонкий и отчетливый Колин крик:
— Папа! Папа! Папа!
И опять кто-то, чуть ли не сам унтер Гузеев, сказал тихо-тихонечко: «Ребенок ведь!» А за ним кто-то другой: «Ребенок ведь!» — и третий кто-то уж погромче. И толпа стихала, а крик мальчика все рос, рос и рос…
Назавтра утром из губернского города пришел карательный отряд и расстрелял сто с чем-то человек. Так и сказано было в газете: «сто с чем-то». Руководил расстрелами секретарь Совета Простаков.
Май 1921 года
НИК. НИКИТИН
РВОТНЫЙ ФОРТ
От беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать.
«Станционный смотритель»
I. Угодник
Так замело лесные проселки — пусти роту кованых молодцов в чугунных сапогах — и им не умять, не провести дороги. Застрянут. Чесаным снежным льном забух лес, подмигивает, поскрипывает, и под солнцем вдруг щелканет ухарски; красногрудки в ответ ему чирикнут. Сладко веет осиной мороженой, хвоей. Солнце щедро раскидало из богатых амбаров своих румяные снопы. В воздухе песня: снег сойдет, вода сбежит, скоро-де пахоть — пар, скоро-де копать черный жир!
А какой тут жир: свеяжская-то заболоть да тусклый суглинок.
— Ты что плачешь? Ты не плачь. Что же ты плачешь, мальчик? Стой, мальчик.
А сочное пышное солнце трясет животом — покатывается со смеху, глядя, как внизу в сугробе завязли дровни, лошадь по брюхо парится в мягкой перине, мальчонка рукавицей мажет сизый нос.
— Что ты плачешь? Я тебе говорю, поезжай обратно.
Человек в финке, меховой куртке и черных брюках перекинул кнутишко плакуну.
— Опять… Я же говорю, что останусь. А ты выбирайся до деревни. И скажешь, чтобы прислали за мной. Э-э, марш, в два счета!
— А попадет мне… Обязательно доставь, а то говорит, а я — нет… И мамка тоже.
— Э… э…
Финка щиплет мальчишку за нос.
— Отморозил, кажется. Живо, живо! Ничего не будет. Я скажу. Понял! Э, живо! Как поедешь? Ты не запутаешься?
— Запутаешься… Что я… Вон по вешкам я, вон торчат, а туда замело. Назад-то по вешкам; запутаешься…
Жмется нос.
— …скажешь!
— Так нечего, марш!
Мальчишка взял лошадь под уздцы, вывел на прослеженное, уселся, рукавицами хлопнул — да в крик:
— А н-но-о!
И уж на ходу с дровней:
— …проезжий, а проезжий! В сторожку иди, вона к сосняку там, по левую руку, за стежкой, во-он…
Машет кнутом.
— …согреешься… у сторожа-то…
Финка посмотрела, как круто по косогору визгнули санки, как раструбила хвост лошадь, как мальчишка припал к передку, насвистывая кнутом. Вот упали вниз, за перелог: труба, мальчишка и дровни: просуетилась розовая тень. Нет никого!
Финка уселась на снег, сняла варежки и полезла пальцами под низа широких брюк…
— Черт, набралось снегу… Вот на Невском еще можно, здесь нельзя…
Выскребывает и бубнит:
— К сторожу, налево. Какой сосняк? Э, навалило сколько. Где налево? Экспедиция.
Засмеялась финка — шелохнулись ветви, голосом их тронуло — осыпается с веток снег.
— Экспедиция, черти милые. Э, и солнце…
У финки сжались от солнечных лучей глаза в печеное яблоко.
— Ты смотри, я тоже веселый. Э, вот плюну!
И плюнул, а солнце плевок зарадужило синим, красным, желтеньким.
— Шу-тить? Ничего, ничего, и тебя скоро выучат. Так?
Оглянулась, стряхивая снег с рукавов.
— Налево теперь… Куда?
По ледяной, плотно-убитой стежке пробирается финка мимо синих, пахучих, мерзлых, хвойных стен, ослепляясь блеском серебряной плавь-искры.
— Э-а… э-э-аа… Хорошо!
Дошла до избенки; еле крылья торчат, лиловеет кольчатый дымок из трубы. Финка стукнула раза три в дверь, потопала.
— Эй, отпирай!
А в избенке зашевелился кто-то, по-сурочьи кряхтя.
— Иду, родимый. Ну вот, во имя отца и сына…
И открылась дверь. На белом струганом пороге, сгорбясь, будто под тяжкой ношей, старик Пим.
— Проезжий будешь, ну входи, благословись. Сёдни у меня, почитай, гостеванье. И ты гостем будешь.
Расчесал у себя в космах улыбку — иначе за волосом-то не видно ее. На голове у Пима выгоревшая скуфейка, по бедрам — поясок; стоит лесным угодником.
— Ну-ну, заблудил, должно.
Поскребся Пим в мохнах своих, щеколду задвинул.
— Ну, проходи… чем богаты…
— Иду.
В печке жар, раскаленные соты и пчелы гудят. Пахнет берестой, ельной шишкой. За желтой лавкой налойчик с перекинутым полотенцем; на полотенце вышита синяя зубастая ящер-птица; придавило ее сухой тяжелой книгой. И вышитая птица стонет, сжав зубы. А на птицу, косясь из-за лампадки, сердится с поставца Никола-угодник в алой митре.
— На, милый, похлебай, А там я черничку заварю; иззяб, поди. Из каких мест будешь?
— Из далеких, очень далеких… Э? Там кто?
— Там… — прищурился дед на угол, в углу — Полага. — Вдовица замужняя. А тебе что? При муже вдовицей, так-то, родимый. Ну, да дело ли тебе. Ты кто будешь?
— Я? Я на форт еду. Из Петрограда я…
— Ах ты, из Петрограда…
— Зовут меня Ругаем.
Удивляется-скребется Пим. Нос у приезжего — правильный, уши — ведра; а душа?
Пим задумался о проезжей душе.
Вот штаны у проезжего дорогие; широкие и навыпуск.
А ничего. Только сел и не перекрестился.
— Не нашей веры, поди, — серьезно ему Пим.
— Веры? Э, как бы тебе сказать…
Ругай холоден, ровно лед; и на языке не слова у него, а ледяшки.
— …я не знаю. Моя вера — серп и молот.
Полага из угла откликнулась:
— А я по штанам вашим думала, что матросы будете. В Свеяге нашей матросы тоже такие бывали, что о прошлом годе, к Спасу спустились на канал.
Ругай удержаться не мог — смешно, — растаяли ледяшки. Эта широкая дюжая Полага, с заревыми накатами к губам, — сущее солнце, растопила его. Ругай машет руками, плещутся сизые тени.
— Э, вы — веселая женщина.
Охмелел Ругай; в тиски надо сжать крепкими пальцами тучные Полажкины чаши, что рассыпаются под тонким ситцем; и если бы не Пим, то, подойдя к угловой лавке, он примял бы привычной рукой распарусившееся широкое тело, опалил холодом зарю на щеках; и ближе, ближе надо вмять полные ее ноги, пышные у крутых бедер.
— Э!
Полага вздрогнула. Будто когда на буреломе-малиннике повстречалась она, девчонкой еще, с медведем. То же и здесь: косолапое, неминучее…
Сел, вздохнул Ругай.
— Так! Я еду на форт, на Рвотный форт. А вы вдова?
И пришел черед Полаге хохотать.
— Мы — законная жена; и не чья-либо, а совдепского председателя.
— Но почему старик?..
— А так, — опять опечалилась Полага, что пахучая березка, ветки долу под частым дождиком опуская. — Выходит, захожий человек, что не всегда к добру любовь, а ежели замешана кровь, на крови счастья нету… А все думаю, в матросах вы служите…