Вечером бургомистр Вилчек решил дать в честь хоть и непрошеных, но важных гостей бал.
Наскоро убрали большой зал ратуши. Зажгли люстры. Собрали самых красивых панн из тех семей, которые не выехали накануне штурма из города. Лилась музыка. Сверкали ожерелья на лебяжьих шеях панн. Карл постоял в стороне, посмотрел на танцующих и ушел. Он не любил танцев. Его мало интересовали гордые польские панны. Карл любил лошадей, свои полки и петуха, который будил его на рассвете.
Бал продолжался. Но все сникли. Тот, ради кого и зазвучала эта музыка, не оценил любезности горожан.
Совсем уже к ночи прискакал во Львов бывший познанский воевода, а ныне милостью Карла король Польши Станислав Лещинский. Был он еще совсем молод, но, конечно, не моложе двадцатитрехлетнего Карла. Но странное дело, молодости шведского короля никто не замечал. Может быть, причиной тому был его угрюмый нрав, сутулость и холодный, погасший взгляд. К тому же швед не любил пирушек, обходился без общества дам, а пуще всего раздражали его краснобаи и красавцы сердцееды. И вообще, в присутствии короля шведского нельзя было шутить, а беззаботная улыбка считалась вызовом здравому смыслу. Наверное, добровольно став аскетом, Карл решил взять реванш на другом поприще — на поле брани.
Обо всем этом можно было лишь догадываться. Так же как и о том, что Карлу не дает покоя судьба Гая Юлия Цезаря. Именно о Цезаре чаще, чем о ком бы то ни было, беседовал Карл с Пипером. Все пытался выяснить, где же Цезарь допустил ошибку: позволив египетской царице Клеопатре занять слишком важное место в собственной жизни или же позднее, когда решил убедить римлян в том, что он вовсе не тиран, а щедрый, свободно думающий человек, взваливший на себя бремя славы во имя высшего блага соотечественников?
Станислав Лещинский плохо чувствовал характер Карла, терялся, не знал, можно ли именовать его, как принято между дружественными монархами, «брат мой». Да и стал-то он Карлу «братом» случайно. Русский царь и Август II начали против Швеции войну. Карл в ответ вторгся в Польшу, прогнал с престола Августа. Понадобился послушный шведам король. Выбор пал на Станислава Лещинского. Грустно сознавать, что не сам ты стал творцом своей судьбы. Но жизнь есть жизнь. И с ее законами приходится считаться.
Сейчас Станислав был уже королем Польши и в качестве такового стал упрашивать Карла уменьшить контрибуцию, наложенную на город, до ста тридцати тысяч талеров. Как ни странно, непреклонный Карл на этот раз дал себя уговорить.
— Хорошо, брат мой! Пусть будет так. И объявите, что милость оказана Львову лишь благодаря вашему заступничеству. А сейчас нам самое время сыграть партию в шахматы и отдохнуть. Ночевать будем в лучшем доме на этой площади. Вот он… Его тут называют «королевской гостиницей».
— Но я знаю этот дом, — ответил Станислав, бледнея, — и не хотел бы в нем ночевать. Он пользуется дурной славой.
— Пустое! — махнул рукой Карл. — Что нам до славы какого-то дома? Нам надо думать о собственной.
А репутация у дома и вправду была не из лучших.
Когда-то, еще в 1376 году, его построил князь Владислав Опольский. С 1405 года здесь жил брат короля Ягайло — великий литовский князь Свидригайло. Причем именно в этом доме со Свидригайло приключилась лихорадка, едва не сведшая его в могилу. Через пятнадцать лет хозяином дома стал сам Ягайло, который предпочитал Львов Кракову, поскольку до конца дней своих так и не научился толком говорить по-польски, а во Львове было с кем потолковать на единственном языке, который Ягайло знал сносно, — на русском. И надо же было, чтобы именно здесь с Ягайло случился сердечный удар, от которого он так и не оправился.
Но это еще не все, В этом доме умер король Михаил Корбут-Вишневецкий, а другой король, Ян Собесский, пролежал несколько дней без сознания, упав с лошади. Правда, Август II тоже здесь жил. И ничего страшного с ним не приключилось, если не считать потери трона. Это хоть и трагедия, но кое-что у Августа осталось. Например, саксонское курфюршество. В общем, жить можно. Дрезден ничуть не хуже Варшавы.
— Вперед! — повторил Карл. — О чем вы задумались?
— Так… О разном… О суетности жизни… О своей собственной судьбе.
Вечер они провели в зале, выложенном золотистой майоликой. Карл протянул ноги к горящему камину, на шахматный столик почти не глядел, ходы делал случайные, расспрашивал о том, как настроены украинские казаки: будут ли они поддерживать русского царя, если шведские войска пойдут на Москву?
Лещинский этого не знал, но напомнил, что в свое время враг Польши казацкий гетман Богдан Хмельницкий собирался просить заступничества у шведской короны.
Пока беседовали, Карл подставил своего короля под удар. Партию можно было выиграть одним ходом, но Лещинский не решился. Вдруг швед обидится? И в свою очередь сделал не менее нелепый ход.
— Куда же вы направитесь теперь, брат мой? На Москву или на Дрезден?
Шведский король не отвечал.
Укутавшись в обычный суконный солдатский плащ (он его так и не снял, войдя в дом), Карл сладко спал. Прямо в лицо Станиславу был нацелен острый кадык. Во сне черты лица Карла стали мягче. Теперь было видно, как он молод, почти юн.
— Брат мой! — Станислав коснулся руки шведа. — Вы устали?
— Я? — встрепенулся Карл. — Я вообще не устаю. Завтра мы двинемся вперед.
— Но куда: на восток или на запад?
— Какая разница. Только бы поближе к неприятелю! Кто выиграл партию?
— Кажется, вы, брат мой, — ответил Лещинский. — Мои фигуры очень уж неудачно расположены.
— Пусть будет ничья! — решил король шведов, готов и вандалов. — Спокойной ночи!
Тяжело ступая, Карл ушел.
А Станислав Лещинский еще долго глядел на мрачное здание ратуши. Огни уже не горели. Бал давно закончился. Новый польский король чувствовал, как к нему подкрадывается страх. Что случится завтра? Послезавтра? Через год? Не проще ли было не рваться в монархи и оставаться познанским воеводой? Но разве он мог бы что-то изменить? Всё и за всех теперь решал юный решительный швед.
Часть первая
Истина, где ты?
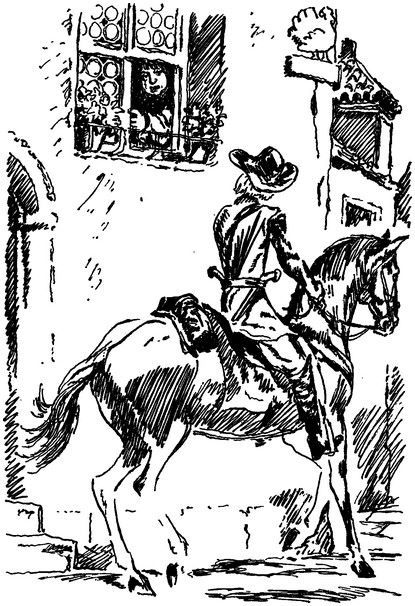
Даниил Крман был дороден, розовощек и праведен. Но это еще не самое важное, что можно о нем сказать. Разве не любопытно, например, что Крман был на самом деле вовсе не Крманом, а Германом? Он происходил из немецкой протестантской семьи, давным-давно осевшей в Словакии, в городке Пряшеве, затерявшемся среди поросших голубыми лесами холмов. И здесь Германов со временем стали именовать на местный лад Крманами. Да и сам Крман считал себя словаком, хотя учился философии и теологии в университетах в Бреславле и Виттенберге. Позднее сам преподавал в Пряшевской коллегии. И собирался было так и закончить свои дни, учительствуя и держась подальше от бурных событий нового века. Но началось в Венгрии восстание князя Ференца Ракоци, который объявил, что проживающие в пределах империи Габсбургов кальвинисты (протестанты) должны быть уравнены в правах с католиками. Это, естественно, не понравилось Габсбургам, сидящим на престоле в Вене, поскольку сами Габсбурги были ревностными католиками. Начались сражения. Тем временем Даниила Крмана выбрали суперинтендантом[3] лютеранской церкви Северной Венгрии — по тем временам пост большой. И он, сам того не желая, в один прекрасный день обнаружил, что попал в число тех, кто обязан действовать и совершать поступки, чего Даниил Крман как раз и не любил. Никаких поступков совершать ему не хотелось. Если у Крмана и была к чему-нибудь естественная склонность, так это к тихим дружеским беседам, негромкому хоровому пению и к поискам истины за столом собственного кабинета.
«Обретший истину вместе с нею обретет и себя самого», — придумал Даниил девиз еще в студенческие годы. Куда проще было повторить слова, выбитые некогда над входом в храм Аполлона в Дельфах: «Познай себя самого!» Но обстоятельному Крману претил лаконизм. В попытках говорить слишком кратко ему чудились высокомерие и нарочитость. Что было бы, если бы чрезвычайным лаконизмом отличались, к примеру, пастыри? Они никогда никому ничего не объяснили бы. «Если уж взялся говорить, — полагал Крман, — то говори старательно, терпеливо, не скупясь на слова, так, чтобы все объяснить и себе самому и окружающим».