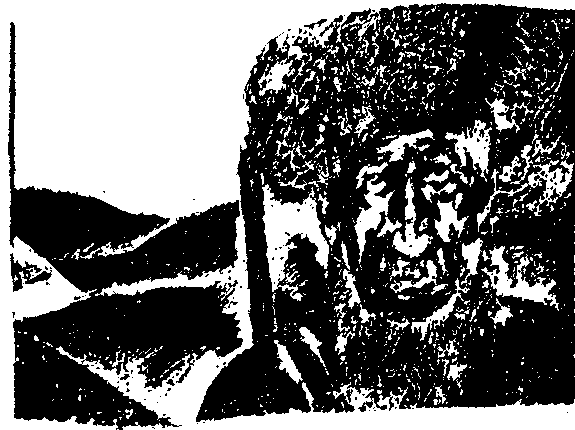Ты говорил, что будет дочка, а я пророчила сына. Я понимаю, ты не хотел своими словами обидеть меня. Хотя большинство твоих покупок предназначено девочке. Значит, ты уже её любишь?.. Девочку можно так красиво одевать. И всё же в глубине души, ты, вероятно, мечтаешь о мальчике.
А если вдруг и впрямь родится девочка?
Я люблю тебя, слышишь? Я тебя люблю!
Перевод Т.Павловой
Агагельды Алланазаров
Старик
I
Из села Курбан-мерген[17] выехал затемно, но на востоке у горизонта уже чуть-чуть розовело. Постоянно понукая и без того скорого на ногу, суетливого ослика, он вскоре въехал в знакомую долину. Здесь дул лёгкий, но свежий ветерок — остатки сна он мгновенно унёс, — и старику даже пришлось получше запахнуть полы домотканого из верблюжьей шерсти халата и подпоясаться кушаком.
Звуки села — заполошное предрассветное пение петухов, лай собак, голоса проснувшихся уже хозяек, — сюда, в долину, можно сказать, не долетали. Это уж если прислушиваться, а так здесь совсем тихо.
— Кхе, кхе! — поторапливал животное Курбан.
Ему хотелось холодочком уехать как можно дальше.
Было ещё совсем темно, но старик, кажется, по запаху трав и ещё каким-то ему одному известным приметам определил, что вот-вот будет Езгенли. А это уже настоящая пустыня. И теперь вдруг Курбан-мерген особенно остро почувствовал, что он соскучился по ней, что жить дальше, не побывав в песках, не сможет.
Он вернулся в пустыню ещё года два назад. Он и собрался уж было совсем, но… В тот раз ему помешал мальчуган в чёрных, суженных книзу туркменских штанах и нарядной тюбетейке. Он увязался за стариком и много дней ходил по пятам, как ягнёнок за матерью. В конце концов Курбан-мерген так привык к нему, что в те редкие дни, когда мальчуган почему-то не приходил, ему уже чего-то не хватало… Не доставало его общества.
Мальчишка этот, всегда опрятно одетый, чистенький, кажется, происходил из семейства кумли[18]. Глядя на него, Курбан-ага вспоминал себя вот таким же малышом. О чём он думал, о чём мечтал в та время? Да о том же, о чём думает и мечтает сейчас вот этот пострелёнок. Почему в пустыне часто можно видеть огромные озёра, но подойти к ним нельзя: ты к ним, а они — от тебя? Кто так тревожно ухает и стонет по ночам в песках? Почему шакалы кричат человеческими голосами? Может быть, они действительно когда-то были людьми, но сотворили много бед и подлостей и аллах покарал их?..
Курбан-мерген посмотрел, вправо — там раздался лёгкий прерывистый посвист, — ничего не увидел в голубатовато-серых сумерках, но понял: начинает свой трудовой день жаворонок. Сейчас он взмоет ввысь и первым из обитателей долины увидит солнце.
— Хорошо ему! — вслух позавидовал жаворонку Курбан-ага. — Однако уже совсем утро.
Нужно было торопиться — он был опытным охотником и отлично знал, где, как и когда лучше всего охотиться. Он терпеть не мог вылазок на авось. Нет, охотиться, так уж охотиться! Наверняка. Только наверняка! А бить ноги впустую — мало радости.
Многое, конечно, зависело и от предстоящей погоды. Надо ёкать повадки и привычки той дичи, на которую ты собрался охотиться, точно предвидеть, где именно она будет сегодня. Если ты этого не знаешь, какой ты к дьяволу охотник? Огородом займись, ремеслом каким-нибудь. Может быть, в этом чего-то и достигнешь, а в охоте… Себя будешь мучать и пустыню.
Курбан-ага вспомнил, какими были эти места в пору его юности. На первый взгляд вроде бы ничего не изменилось — те же холмы, с трёх сторон окаймляющие долину, синеющие вдали отроги Гиндукуша, редкие там и здесь саксауловые рощи… Но изменилось многое.
Вот здесь, например, в то время можно было встретить стадо джейранов. Причём какое стадо! Перевели этих животных вконец. Бьют самцов, самок, молодняк без разбору. Бьют весной, летом, осенью… Из одностволок, двустволок, многозарядок…
А вот было время, Курбан-ага помнит его, когда охота считалась праздником. Когда отец, известный в здешних местах охотник, брал первый раз с собою в пески Курбана, он приказал домашним одеть мальчишку во всё новое. Мать достала ему белую рубашку-косоворотку, точь-в-точь такую, как у отца, новые штаны, тюбетейку… Так не одевали его даже, когда шли в гости к дяде Клычмураду.
В ту, первую в его жизни охоту Курбан-мерген увидел поразившую детское воображение картину: они с отцом наткнулись на охотничий привал. На поляне меж двух холмов валялись в беспорядке разбросанные джейраньи головы. Много голов! Может быть, двадцать, двадцать пять, а возможно и больше.
Запомнилось выражение отцовского лица: боль и ненависть одновременно.
— Негодяи, — тихо сказал старый охотник. — Всё им мало… Всё мало…
Но прошли годы, и в жизни случилось так, как говорят в народе: «Кобра не терпит запаха мяты, а мята растёт у её норы», — Курбану самому пришлось заниматься отстрелом джейранов. Не охотой, когда больше одного-двух он никогда не трогал, а отстрелом — брать на мушку любого повстречавшегося джейрана. Это было в тяжёлые годы войны, когда в их селе начался голод. Правление колхоза поручило ему отстрел. Он не хотел, отказывался, но потом подумал, подумал и согласился. Больше ведь некому. В селе остались малыши и женщины, да с десяток стариков. Одним словом, кроме него некому. И он согласился. Чтобы уберечь убитого джейрана от мух, Курбан-ага наскоро присыпал добычу песком. Присыпал, ставил вешку, чтобы, чего доброго, помощники его не прошли мимо, и отправлялся дальше. И так много дней подряд. Несмотря на возраст (Курбан-мерген и тогда уже был в годах), он стрелял без промаха. Иногда, если удача улыбалась ему, он одним выстрелом убивал двух джейранов. В такие минуты на душе у него становилось чуть-чуть светлее — сэкономил лишний заряд. С порохом и дробью в то время было очень трудно — шла война…
Давно это было… Так давно, что… На днях он стал рассказывать обо всём этом мальчугану в нарядной тюбетейке и видит, что тот не верит ему. По глазам видит. А что? Старик сам порою уже не верит тому, что когда-то видел собственными глазами. Сомневается — наяву ли это было. Или во сне?
Пока старик выбрался из густых зарослей рогоза в конце долины, совсем уже наступило утро. Воздух был так чист и свеж, что даже ему, старику, которого уже не первый год мучает одышка, сейчас дышалось легко, полной грудью. Поблёскивающие под первыми лучами солнца росные травы радовали глаз. Весна нынче была хорошая, отметил про себя Курбан-ага. Очень добрая…
Он попридержал осла, и, приложив козырьком ко лбу ладонь, несколько минут любовался долиной, похожей на гигантский пендинский ковёр.
— Хорошо! — воскликнул он.
Два суслика, следившие за стариком с пригорка в каких-то десяти шагах, потешно свистнули и бросились бежать, да в торопях перепутали норы, потому что тотчас же выскочили обратно. На задние лапки они встать не решились, — не хотели выявлять себя, — но следить за человеком продолжали.
Курбан-мерген улыбнулся и поехал дальше. Он прекрасно знал сусличьи повадки: трудовой день грызунишка начинает с того, что долго-долго, пока солнце не припечёт по-настоящему, греется, сидя на песочке у своей норы. Солнечные ванны для него важнее самого сытного завтрака. И лишь согревшись как следует, он начинает примышлять.
Отогревшись, и подкрепившись, суслик наконец становится настоящим сусликом. А настоящий суслик линь отшельником, как, скажем, крот-слепыш, не будет. Он любит шумное веселье и общество и поэтому немедленно отправляется в гости. Потому-то эти грызуны и живут колониями, целыми посёлками.
Курбан-мерген решил напиться чаю. Он спешился, вбил в землю металлический колышек, привязал к нему осла, собрал охапку сухих веток тамариска и развёл костёр. Через несколько минут, полулёжа на своём видавшем виды халате, он попивал приятно пахнущий чай и с улыбкой наблюдал за сусликами. А те уже привыкли к человеку и, кажется, не обращали на него внимания, носились как угорелые от норки к норке, пищали, устраивали друг другу потасовки.