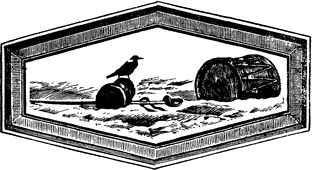13 июля Кульнев вновь переправляется через Двину в районе Друи. В этот день последовала удачная атака на неприятельский отряд в 1500 человек, сопровождавший транспорт. Итог боя: 430 человек пленных солдат и два офицера, один из которых сообщил важные сведения о движении войск Удино.
После нескольких неудачных попыток овладеть Двинском Удино разрушил Дрисский лагерь, покинутый русскими войсками, занял город Дисну, подошел к Полоцку и 14 июля занял его без боя.
Судьба распорядилась таким образом, что Кульневу пришлось сражаться в тех местах, где он родился, провел детство, и это еще более усиливало его ненависть к завоевателям. Оставив в Полоцке небольшой гарнизон, Удино двинулся по Петербургскому тракту. Здесь-то и разыгрались кровавые сражения, лишившие французов возможности наступления на русскую столицу.
Удино полагал обойти Витгенштейна справа, с тем чтобы Макдональд обошел его слева, и, окружив, разбить корпус русских. Замысел этот удалось разгадать, и Витгенштейн решается атаковать корпус Удино до того, как подойдет Макдональд. Движение корпуса возглавлял авангард Кульнева в составе Гродненского гусарского полка, казачьего, двух егереских полков и конной артиллерии — всего 3730 человек с 12 орудиями.
Кульнев решительно двинулся навстречу Удино, следом за ним вышли главные силы корпуса. Восемнадцатого июля в час дня Кульнев получил сообщение от разведки, что у селения Якубово расположилась французская дивизия. Около двух часов дня авангард Кульнева подошел к Якубову и, с ходу атаковав противника, завязал бой. До позднего вечера продолжалось сражение и гремела канонада.
На следующий день Кульнев вместе с основными силами Витгенштейна продолжил сражение. Бой был жаркий и кровопролитный. Неприятель потерпел поражение и вынужден был отступить.
Кульнев преследует разбитого неприятеля. Преследование было успешным, отряд Кульнева захватил девятьсот человек пленных и весь обоз корпуса Удино!
Это была полная победа!
Утром 20 июля Кульнев, опьяненный успехом, в азарте, продолжил наступление. Только вступив в бой с неприятелем, он понял свою роковую ошибку.
За ночь Удино отошел верст на пять к деревне Боярщина и занял со своими войсками выгодную позицию между озерами Клешно и Лонье. Кульнев, полагая, что Удино с основными силами отошел на более значительное расстояние, атаковал арьергард французов и опрокинул его. Но в пылу боя не заметил, как попал в западню: с фронта он был встречен картечью, а с флангов и засады его атаковала пехота. Понимая, что необходимо подкрепление, он посылает записку Сазонову, но тот проявил нерешительность и вместо всей дивизии выслал только один полк с батареей. Но было уже поздно… От полного разгрома отряд спасла кульневская одержимость. Отбиваясь от наседавшего врага, русские войска отходили к Сивошину. Кульнев замыкал отступление, подвергая себя наибольшей опасности. Очевидцы рассказывали, что Кульнев, огорченный неудачей, переправляясь под неприятельскими выстрелами через реку Дриссу, «сошел с лошади и молча следовал за отрядом, когда французское ядро оторвало ему обе ноги выше колен».
Последними словами умирающего Кульнева были: «Друзья, не уступайте врагу ни шага родной земли. Победа вас ожидает!»
Гибель командира внесла некоторое замешательство в ряды русских. Французские кирасиры бросились к упавшему генералу, но гродненские гусары дали им достойный отпор.
Так, в расцвете сил, не дожив до своего сорокадевятилетия всего несколько дней, в бою с врагом погиб храбрый воин суворовской школы Яков Петрович Кульнев.
Два часа спустя у деревни Головщизна с новой силой разгорелся жестокий бой и дивизия Вердье, преследовавшая Кульнева, была наголову разбита подходившими частями корпуса Витгенштейна. В этом сражении вновь отличился Гродненский гусарский полк Кульнева.
Тяжелое впечатление произвела кончина Кульнева на всю Россию. Современник вспоминает: «Весть о его кончине пришла в Москву вечером. В Большом театре давали оперу „Старинные святки“, среди действия Сандунова — знаменитая тогда артистка, — подойдя к рампе, неожиданно для наполнившей зал публики, дрожащим голосом запела: „Слава, слава генералу Кульневу, положившему живот свой за отечество…“ Дальше продолжать она не смогла от слез. Весь театр заплакал вместе с ней».
После смерти тело Кульнева было предано земле невдалеке от того места, где он погиб, у деревни Сивошино. Похороны, состоявшиеся 21 июля 1812 года, сопровождались воинскими почестями.
В 1830 году на месте гибели установлен скромный гранитный памятник «высотою в 3 аршина и 3 вершка». На лицевой стороне сверху надпись: «Генерал-майор Кульнев — 20 июля 1812 года». Ниже выгравирован отрывок из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов»:
Где Кульнев наш, рушитель сил,
Свирепый пламень брани?
Он пал — главу на щит склонил
И стиснул меч во длани…
В 1832 году братья перевезли прах Кульнева в свое поместье Илзенберг. В этом же году ими была выстроена часовня, где и в настоящее время находится его гробница. Перед надгробием портрет Кульнева со словами: «От клястинцев-гродненцев и почитателей незабвенному герою 1812 года».
Кульневу не суждено было стать участником и свидетелем разгрома и бегства неприятеля из пределов России, он погиб в самом начале великой эпопеи, но тем не менее имя его стоит в одном ряду с ее «чудо-богатырями» — Кутузовым, Ермоловым, Багратионом, Милорадовичем, Раевским, Коновницыным и другими. Не случайно один из таких же легендарных героев, Денис Давыдов, писал о нем: «Смело можно сказать, что Кульнев был последним чисто русского свойства воином, как Брут — последним римлянином».
Б. Костин
Александр Никитич Сеславин
I
Мало сохранилось исторических материалов об Александре Никитиче Сеславине. Мы даже не знаем ни дня, ни месяца его рождения. Известен только год — 1780-й. Правда, сам генерал неоднократно утверждал, что родился в 1785-м. Возможно, он искренне заблуждался, но не исключено, что умышленно вводил в заблуждение — лестно в тринадцать лет стать гвардейским офицером, а в 28 — генералом. Довольно заманчиво принять версию Сеславина, но в этом случае генерал оказался бы моложе младшего брата Федора, родившегося в 1782 году (факт достоверно установленный).
В сохранившихся письмах Александра Никитича Сеславина к старшему брату Николаю за август 1845-го и сентябрь 1850 года есть одна на первый взгляд ничего не значащая деталь: они содержат слова благодарности за сердечные поздравления. «Благодарю тебя за воспоминание обо мне, благодарю также и Софью Павловну [20], поздравь и от меня ее с наступающим днем ангела», — писал Александр Никитич 12 августа 1845 года. «Любезный брат Николай Никитич! Письмо твое от 29 августа я имел несравненное удовольствие получить. Благодарю тебя за все твои желания и память обо мне», — читаем в следующем письме от 15 сентября 1850 года.
Этих писем Николая Никитича, к сожалению, не сохранилось, но, очевидно, в них речь шла о каких-то сердечных пожеланиях брату, которые обычно принято высказывать в дни больших праздников или именин. На конец августа подобных праздников не приходилось. Остается последнее — именины. Действительно, 30 августа отмечалось как день Александра. Известно, что в те времена новорожденным часто давали имя по святцам. В семье Сеславиных также придерживались этого правила: сын Николай, родившийся 1 мая, праздновал день своего «ангела» 9 числа.
Поэтому есть все основания утверждать, что на свет Александр Сеславин появился в августе 1780 года. Первый крик новорожденного раздался в родовом имении — сельце Есемове, расположенном на берегу реки Сишки в Ржевском уезде Тверской губернии. Здесь Сеславин провел детство, обучился грамоте и здесь же ему было суждено завершить свой жизненный путь. Отец его — поручик Сеславин Никита Степанович, принадлежал к бедному мелкопоместному дворянству. Все его состояние заключалось в 20 душах крепостных. В 1795 году он вышел в отставку и определился в гражданскую службу, где получил должность городничего Ржева, насчитывавшего в то время около 3 тысяч жителей. Охранял «тишину и спокойствие» уездного города Сеславин-старший до конца жизни. «…В 1816 году, на свадьбе Анны Павловны (великой княгини. — А. В.), за ужином, императрица Елизавета… подошедши ко мне сзади и пожав мне плечи, сказала потихоньку: „Узнав о смерти Вашего батюшки, государь жалование его обратил в пенсию всех Ваших сестер за заслуги, которых Россия не может еще оценить…“» — писал Александр брату Федору. В наследство детям отец оставил единственное имение, к тому времени «заключавшееся в 41 душе крестьян и 750 десятин земли».