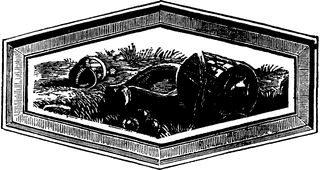Правдивая летопись…
Кто может поручиться за истинность того, как преподносилось то или иное событие, те или иные военные действия Отечественной войны 1812 года в военных реляциях, сводках, донесениях или рапортах?
Сколько настоящих заслуг, принадлежащих подлинному герою, приписывалось порой другим! Не прошла сия несправедливость и мимо Н. Н. Раевского.
Он говорил: «Я век мой жил и служил без интриг, „без милостивцев“, ни к каким партиям не приставал и не отставал ни от кого своих товарищей».
Не мог этот человек после кровопролитной битвы у Салтановки не отметить (выше, чем свое!) геройство своих подчиненных. После Бородина он отмечает во всеуслышание действия своих подопечных генералов Паскевича и Васильчикова, и даже генерала Ермолова, прослывшего спасителем Курганной батареи. После сражения под Красным Раевский запишет правдивую историю о том, что конница Уварова, которой приписывались исключительные заслуги после произведенной атаки, на самом деле никакую атаку не производила. «Правда всего дороже!» — восклицает генерал.
Этой правды он требовал и от себя и от своих подчиненных. Выспренних слов он не любил. Был исключительно скромным человеком. Вот что писал биограф: «Не переносил „нувеллистов“… а поэтому с первых дней службы усердно принимал меры, чтобы не создавать вокруг своею имени шума, причем для достижения этой цели он не останавливался, например, перед следующим: скрывал полученные раны и контузии, умышленно умалял свои заслуги даже в интимной переписке с близкими людьми, отрицал свои явные подвиги, которые признавались всеми, и т. п.». Вот почему впоследствии возникло так много всяческих легенд о том, что якобы в битве под Салтановкой не участвовали сыновья генерала. Он не любил бравировать этим. А от назойливых расспрашивателей отмахивался, говоря, что, мол, ничего особенного и не было. «Много имею что пересказать, — писал он однажды, — на счет наших военных действий, да бумаги нет и некогда…»
Удивителен факт, что после битвы под Смоленском, по словам Дениса Давыдова, «по странности, которая может быть изъяснена только страстями человеческими, сражение сие почти нигде не было оглашено». Полковник К. Ф. Толь в журнале совета в Филях даже и не упомянул, что в нем участвовал H. Н. Раевский.
Даже будучи раненным или контуженным, Раевский не выдавал на поле боя своих страданий и зачастую оставался в сражении до конца. Под Салтановкой никто и не заметил, что перенес этот человек. Д. Давыдов описал: «После сего дела я своими глазами видел всю грудь и правую ногу Раевского… почерневшими от картечных контузий. Он о том не говорил никому, и знала о том одна малая часть из тех, кои пользовались его особою благосклонностию».
В знаменитом кровопролитнейшем сражении под Лейпцигом, в самый решительный момент Раевский был тяжело ранен в правое плечо. Рядом с ним находился его адъютант, поэт Батюшков. Он заметил, что генерал ранен, и подскакал к нему, чтобы оказать помощь. Но Раевский отстранил его, и, положив руку на обагренное кровью правое плечо, сказал с улыбкой слова, ставшие впоследствии известными:
Je n’ai plus rien du sang qui m’a donné la vie;
Ce sang s’est épuisé, versé pour la patrie [1].
В посмертной «Некрологии» Раевского говорилось: «Он остался на лошади и командовал корпусом до окончания сражения, хотя рана была жестокая и кость раздроблена…»
Вот таков был этот человек, биография которого во многом до сих пор остается для нас загадкой. Быть может, еще до сих пор не выполнена «обязанность изобразить Раевского таковым, каков он был действительно», как писал Д. Давыдов, прибавляя к этому, что если «изображение его требует пера военного, то еще более, может быть, ожидает оно оценки философической».
Последние дни генерала были на редкость тяжелы. Недаром об этом вспоминал А. С. Пушкин, напоминая о том, чтобы не забыть «героя 1812 года, великого человека, жизнь которого была столь блистательна, а смерть так печальна».
Тяжелая болезнь приковала его к постели. Нужда преследовала по пятам. «Ни единого ропота, ни единого злобного слова не вырвалось из уст его; ни единым вздохом, ни единым стенанием не порадовал он честолюбивую посредственность, всегда готовую наслаждаться страданием человека, по мере его достоинства. Испытание ужасное! Несколько лет продолжалось оно неослабно…» — замечал Денис Давыдов.
Н. Н. Раевский скончался 16 сентября 1829 года. Ему было 59 лет. «Военная служба его, принесшая столько пользы и славы отечеству, — писал современник, — есть, без сомнения, блистательнейшая, но не превосходнейшая из песней благозвучной его жизни — жизни, которая именно отличается какою-то особой гармониею всех частей, составляющих целое».
Современник же проникновенно отметил следующее: «Судьба определила Раевскому в Дашковке и в Париже нанести Наполеону первый и последний удар». На памятнике героям Отечественной войны 1812 года, внутри помещения храма Христа Спасителя, прямо при входе можно было встретить имя генерала Раевского дважды: сначала на левой колонне как победителя французов под Салтановкой — в самом начале войны, и, наконец, справа, среди героев покорения Парижа, на колонне, венчающей славную галерею.
Он был в Смоленске щит,
В Париже — меч России.
Константин Ковалев
Александр Иванович Остерман-Толстой
Большинству своих современников, множеству знакомых, друзей, а порой и самым близким людям он стал известен уже как граф Остерман-Толстой. И даже те, кто знал его в годы молодости, вспоминали, что уже тогда он был генералом. В своих мнениях о нем все сходились на том, что граф Александр Иванович Остерман-Толстой был баловнем судьбы. Казалось, что его генеральские эполеты сияли еще ярче в блеске его обаяния и воинской доблести. Был он не просто красавцем, стройным, высоким, с темно-русыми волосами и синими глазами, но «…важные, резкие черты отличали его смуглое значительное лицо, по которому можно было отгадать характер самостоятельный…». Самостоятельность характера объяснялась отчасти тем, что Остерман-Толстой был одним из самых богатых российских помещиков, который древностью происхождения мог поспорить с царской фамилией.
Его благосостояние не зависело от жалованья, получаемого за службу, от милости или немилости императора, он служил без принуждения, из одного только чувства чести, считая это своим долгом перед Отечеством. «Даже среди знаменитых сверстников умел он себя выказать», — писал о нем один из современников.
Родился Толстой в зимнем Петербурге в 1770 году и был единственным ребенком в семье видного екатерининского сановника Ивана Матвеевича Толстого, женившегося на Аграфене Ильиничне Бибиковой, происходившей из древнего татарского рода. Отец будущего героя Отечественной войны 1812 года имел чин генерал-поручика и был человеком образованным. Принадлежа к высшему кругу петербургской знати, семья Толстых была небогатой, что делало почти несбыточными мечты родителей о блестящей карьере любимого сына. Для того чтобы Толстой мог занять при дворе и в обществе место, подобающее его знатности, родительских средств явно не хватало. Это обстоятельство вызывало постоянное неудовольствие Ивана Матвеевича, который к тому же от природы был человеком суровым, угрюмым и желчным. В кругу семьи он без стеснения порицал порядки, царившие при дворе императрицы Екатерины II, считая их для себя невыносимыми. Он не скрывал своего раздражения прочив «новой» петербургской знати Меншиковых, Безбородко, Орловых, Разумовских, которая, уступая в родовитости, возвышалась и укрепляла свое положение за счет бесчисленных земельных и денежных пожалований. Сам Иван Матвеевич был беден, но горд. Подаяния он не принял бы даже из царских рук, твердо считая, что служить надобно бескорыстно. Он был прямодушен и честен, не умел льстить и старался привить свои моральные устои сыну, решив, что лучшее воспитание Александр получит в родительском доме. Очевидно, домашнее образование Толстого оказалось бы недостаточным, если бы он не был любознателен от природы и не пополнял бы свои знания ревностно и неустанно всю жизнь. «Я не стыжусь невольного невежества, но не хочу быть невольным невеждой», — говорил он впоследствии. У юного Толстого были особые склонности к иностранным языкам. Он знал их несколько, говорил по-французски так, что французы принимали его за соотечественника. Иван Матвеевич считал необходимым тщательное изучение латыни, очевидно, для того, чтобы сын, читая в подлинниках описания подвигов знаменитых мужей античности, проникался их возвышенным духом, благородством поступков и прямотой суждений. Однако в те времена самым удивительным было то, что Толстой в совершенстве говорил по-русски, в отличие от многих российских дворян, для которых сделался родным французский язык. Живой интерес всегда вызывали у него книги по военному искусству. Он с жадностью читал описания походов и войн всех времен, но страницы русской военной истории начиная с эпохи Петра I волновали его особенно.