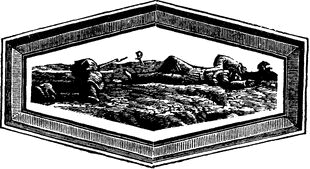27-я дивизия активно участвовала во всех сражениях Силезской армии. Одно из них, Лейпцигское сражение, вошедшее в историю «как битва народов», стало для Дмитрия Петровича роковым.
Полки 27-й дивизии наступали на город с севера. Ценою невероятных усилий 19 октября Неверовский ворвался в северное предместье Лейпцига.
Дмитрий Петрович вел полки в атаку, когда пуля ударила ему в ногу. Кровь выступила через одежду, но он продолжал руководить дивизией. Всем, кто показывал на окровавленную одежду, он говорил:
— Чепуха, шпорой царапнул. — И отказывался покинуть поле боя.
Узнав о ранении Неверовского, командир корпуса Сакен встревожился. Адъютант передал его приказ — сдать дивизию и ехать к резерву. Но Неверовский ответил адъютанту:
— Передай, не могу покинуть дивизию в трудный момент.
Сакен пошел на хитрость. Он вызвал Неверовского к себе, якобы на совещание.
Дмитрий Петрович прискакал к нему. И тут почувствовал, что силы покидают его. Он упал с лошади. На следующий день его привезли в Галле. Врач установил, что пуля застряла в кости. Было решено вынуть ее.
Записки современников донесли до нас описание этой операции: «Малахов прорезал рану Неверовского, вынул несколько раздробленных костей, зацепил щипцами пулю, рванул, но французский свинец держался крепко. „Вот, — сказал Неверовский, пересиливая мучительную боль, — говорят, что мы не умеем терпеть. Все можно перенести!“ Потом он просил собрать вынутые из ноги его кости и сохранить их на память. Через несколько минут, необходимых для отдохновения, Малахов вновь зацепил пулю щипцами. Без стонов, с возможною человеку твердостью, старался Неверовский перенесть возобновленную пытку, но когда пулю наконец вынули, от сильной боли в груди и левом боку, пораженных контузиею, полученной под Бородином, он впал в горячку».
Спустя несколько дней началась гангрена. Ампутировать ногу было поздно — генерал потерял слишком много сил. Поднялась температура. Дмитрий Петрович начал бредить. «Вперед! На штыки!» — кричал он в забытьи.
С этим кличем на устах 21 октября 1813 года в день своего сорокадвухлетия сподвижник Суворова Дмитрий Петрович Неверовский скончался на руках своих адъютантов.
Похоронен он был с воинскими почестями в городе Галле. Защищая Россию, Неверовский заслужил такие награды: ордена Георгия 3-й и 4-й степеней, Владимира 2-го и 3-го классов, Анны 1-й степени и прусский орден Красного Орла.
Через год жители небольшого немецкого городка Галле были удивлены неожиданным зрелищем. В город с музыкой и развернутыми знаменами вошли русские батальоны. Это был возвращавшийся из Парижа гвардейский Павловский полк. Сделав немалый крюк, гвардейцы завернули к могиле Дмитрия Петровича Неверовского. «Военною тризною» они почтили память своего бывшего шефа. Полковой священник отслужил молебен, загремели барабаны, раздалась команда: «Накройсь!» Полк церемониальным маршем прошел мимо могилы героя-генерала.
В 1912 году, к столетней годовщине Бородинского сражения, останки Неверовского были перевезены в Россию и похоронены в районе Семеновских (Багратионовых) флешей.
Рядом с памятником погибшим солдатам прославленной 27-й дивизии встал памятник ее командиру. На черном граните его с лицевой стороны выбито: «Здесь погребен прах генерал-лейтенанта Дмитрия Петровича Неверовского, мужественно сражавшегося во главе 27-й пехотной дивизии и контуженного в грудь ядром 26 августа 1812 года». На другой стороне памятника тоже есть надпись: «Генерал-лейтенант Д. П. Неверовский сражен в 1813 году под Лейпцигом. Прах его покоился в Галле и в 1912 году по высочайшему повелению государя императора Николая Александровича перенесен на родину 8 июля того же года».
Вл. Тикыч
Яков Петрович Кульнев
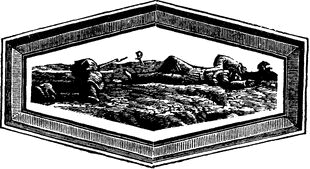
Жена Петра Васильевича Кульнева занемогла, и поэтому ему пришлось задержаться в Полоцке на два дня. И хотя причина, вызвавшая остановку, была серьезной, он, будучи человеком «дисциплины и долга», очень переживал, что не сможет прибыть в установленный предписанием срок. Как только Луизе Ивановне стало лучше, он решил тронуться в путь. Но то ли виной была ухабистая дорога, то ли время подошло — на почтовой станции Сивошино снова пришлось остановиться: у жены начались родовые схватки. С трудом удалось отыскать повивальную бабку, а помогать ей вынужден был сам Петр Васильевич. Так в ночь с 24 на 25 июля 1763 года в небольшой белорусской деревеньке появился на свет будущий герой Отечественной войны 1812 года Яков Петрович Кульнев. Следует отметить, что относительно места рождения Якова Петровича существует множество легенд. Вот одна из наиболее распространенных, сообщенная А. И. Михайловским-Данилевским: «Облекая память Кульнева в народный рассказ, говорили, что он похоронен подле того холма, где родился, ибо его мать, беременная им, ехала из Полоцка в Люцин, внезапно почувствовала боль, вышла из экипажа и родила его на холме под елями, где потом товарищи предали тело героя матери-земле».
Возможно, эти расхождения вызваны тем обстоятельством, что Полоцк и Люцин расположены всего лишь в 130 километрах друг от друга и до конца прошлого века входили в состав Витебской губернии; но, как бы там ни было, полочане считают Я. П. Кульнева своим земляком.
О родителях Кульнева известно очень немногое. Его отец, Петр Васильевич, «верой и правдой» служил отечеству. Однако больших чинов достичь он не смог. Офицерский чин Петр Васильевич заработал кровью во время Семилетней войны. Очевидно, тогда же, в Пруссии, он женился на Луизе Ивановне, урожденной Гребинниц. Яков Петрович отзывался о матери с необыкновенной теплотой и говорил, что она была «воспитана в лучших традициях лютеранской добродетели». Известно также, что она вела переписку с А. В. Суворовым. По свидетельствам современников, Яков Петрович до конца ее жизни треть своего жалованья отсылал матери.
Семья Кульневых не утопала в роскоши. Все ее состояние заключалось в офицерском жалованье отца и в родовом поместье Болдырево Калужской губернии с 25 душами крепостных. Отец часто отлучался из дома по служебным делам, и все заботы по воспитанию детей (их было семь человек: шесть сыновей и одна дочь) ложились на Луизу Ивановну. С особой настойчивостью она воспитывала у них уважение к труду, скромность и бережливость. Эти качества Якову Петровичу были присущи всю жизнь.
В 1770 году Петр Васильевич привез своих сыновей в Петербург. Было решено определить мальчиков в Сухопутный Шляхетский кадетский корпус. Основная задача корпуса состояла в том, чтобы «доставлять малолетним, предназначенным к военной службе в офицерском звании и преимущественно сыновьям заслуженных офицеров, общее образование и соответствующее их предназначению воспитание». Петр Васильевич принадлежал к заслуженным офицерам, и прошение о зачислении Якова и Ивана «на казенный кошт» было удовлетворено.
Корпус давал довольно большой объем знаний по различным предметам и, в частности, по математике, истории, географии, словесности, по иностранным языкам, по фортификации и тактике. Кроме того, в программу обучения входили фехтование, гимнастика и танцы. Многое зависело от директора. И в этом отношении юным Кульневым повезло. Генерал-директор был И. И. Бецкий, умный, дальновидный педагог, стремившийся к тому, чтобы его воспитанники стали достойными продолжателями славных боевых традиций русской армии. «Старик», как звали между собой директора корпуса кадеты, был сух, сед, подвижен, требователен и заботлив. Лентяев и лодырей не чествовал, бездарей презирал, титулованных пасынков не выделял. Бецкий зорко следил, чтобы воспитанники «кондуиту исправного, сиречь годности всякой» были, чтобы в науках и познаниях были сильны, а «пуще готовили себя к превозможению трудов ратных». Времена Аракчеева еще не наступили, армия нуждалась не в плац-парадных балеринах с косичками, а в грамотных боевых офицерах. Победы Румянцева и Суворова возбуждали у кадет гордость за русское оружие, а личности полководцев становились примером для подражания.