А почти рядом, отпечатавшись на полоске чуть маячившей зари, стоял безмолвный Петрован, с котомкой за плечами, с узенькой бороденкой, обращенной в сторону Ильи, в старой-старой войлочной, давно знакомой шапке. Сгорбленный и молчаливый, слившийся с немою полосой земли, отчеркнутой потухшей зарею на небосклоне, он застыл, опершись на костыль, точно заснул стоя и не смел проснуться.
Женщина бросила взгляд на него, на Микулку и задумалась. А в это короткое молчание в нее впились глаза ямщика, а из желто-белой бороды деда залепетали непонятные, словно не наяву, слова:
— Што, мила дочь? Притих твой подорожник! Давай посадим его. Подсоби-ка, ай ты, дяденька! — кликнул он Петровану. Петрован подошел, взял за руки купца, подкрякнул голосом совсем подавленным и непослушным.
— Да ну, садитесь вы скорее! — подсаживая засыпающего спутника глухо, через силу, выдавила женщина и, вскочив следом за ним в повозку, закричала на ямщика свирепым, страшным, точно пьяным голосом:
— Ну, што же — ты?.. Шевели же!..
И, натянувши вожжи, безвольно, как в тяжелом сне, покорился ей Илья. Но выронил из рук кнут, а подбежавшему подать его Микулке полусонно и чуть слышно прорычал:
— Узнаешь сестру-то?
Потом, подпрыгнувшим на самую отчаянную ноту голосом, обрушился на лошадей:
— Гра-абя-ат!..
И как в пропасть ринулся на испуганной тройке в темную глубь дороги…
Только теперь и женщина его узнала. Она быстро встала на ноги и не чуя бешеного бега тройки, потерявши шляпу, раскосмаченная, когтистая и страшная, как ведьма, вцепилась в широкие, могучие плечи обезумевшего ямщика и закричала в загустевший встречный ветер:
— Сон это я вижу! Сон какой страшной! Не правду-у! Со-он!
Лошади взбесились и понесли, а ямщик хлестал по всем трем свистевшим бичом и не мог освободиться от тяжелой ноши на своих плечах. Купец, укачавшись, как в люльке — спал.
Да и не могло это быть правдой. Это был сон, сон для всех сразу. Спал на месте, на дороге Петрован, не смея двинуть ногами. Сонными ногами побежал было за тройкой Микулка.
В полусне догнав его, спросил старик:
— Правду што ль — сестра?
— Вре-ет он! — заорал Микулка, — Наша Дуня не такая! От этой водкой несет!
И Микулка с силой бросил с косогора в темный куст шиповника липкую коробку с подарком скрывшейся женщины, подбежал к Петровану и закричал ему, стуча босыми ногами в землю:
— Не верь им, тятенька! Не верь! Это не она-а! Не Ду-у-ня-а!
Прижал мужик парнишку и, не оглядываясь на старика, поспешно повел его в другую сторону дороги, шепча душившим его горло голосом:
— Не кричи, сыночек! Не кричи… Молчи, дитенок мой! Молчи-и!
И ушли от деда тихими беззвучными шагами в темную пустыню ночи.
Спустился дед к своей избушке. Присел к костру и стал раздувать губами полу затухшие уголья. И покраснело все его лицо от вспыхнувшего пламени, как лицо облачного деда на закате, на небе.
Рассказ четвертый
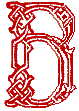
Время старит, время лечит, время за всех думает. Времечко летит. Опознал Илья Авдотью, ошалел от злобы, от нежданной встречи, от паскудных дум о ней. Как только Бог спас — не изувечил ни коней, ни пассажиров? Выпряг молча лошадей, отвязал седло и оседлал коренника, сел на него и, взяв в поводья пристяжных, поскакал в кабак. Не слезая с лошади, стал стучать в окошко с остервенением, с громкой руганью, пригрозил окна разбить. Разбудил кабатчика. Купил бутылку водки и всю обратную дорогу полулежа на седле пил из горлышка. Не взяло, не свалился, даже не вздремнул. У дедушкиной пасеки остановился и больно настегал обиженных лошадей. Лишь зря — приехал домой, а дома новая подвода в другую сторону, подальше расстоянием — тридцать две версты. Почтаря повез на паре, в простом коробке. Ехал, качался на сидении, красными глазами оглядывался на сухопарого почтаря и сплевывал через плечо на сторону густую, горькую слюну. Только, когда свез почту, поехал назад, в жаркий полдень — уснул в кузовке и, потеряв где-то картуз, спал почти до вечера.
Под вечер проснулся — ничего не мог понять. Вывалился из повозки на траву, оцарапал щеку и закричал осипшим голосом:
— Тпру-у, опасна боль вас задави!
Поднялся, огляделся, едва сообразил. Лошади с утра отъехали не больше семи верст, вожжи выпали из рук Ильи, запутались в колесах и кони, свернув с дороги, с пригнутыми к груди мордами стояли весь остаток дня. Проголодались, надоело им стоять с распяленными ртами, пятились, пятились, повернули колесо и опрокинули телегу.
— Вот ладно я проспал! — сказал Илья.
Выпряг лошадей, пустил на корм, а сам пошел искать воды — нутро горело пламенем.
И вспомнил про купца, горевшего вчера от водки, и про остальное.
— Сон какой поганый снился! — проворчал Илья, и нигде не находя воды, пошарил голову. — Картуз потерял! Будь ты проклято! Чего это со мною деется?
Полежал, пока лошади жадно во весь рот хватали отаву. Поднялся. Посмотрел на дорогу — двое странничков идут: мужик с мальчишкой. Знакомые. Вчера их видел где-то.
Высоко поднялась грудь от вобранного воздуха.
— Значит ни какой не сон, а истинная правда! Фу-у, ты, Господи!
Обождал. Так и есть: Петрован с Микулкой шагали по тракту.
— Ну, куда теперь шагать-то? — не здороваясь, закричал Илья надорванным, с привизгами голосом и молча, отобрав у Петрована бутылку с запасной водой, выпил ее звонкими глотками, глубоко вздохнул и проворчал:
— Нашли потерю-то. Кого еще? Куда пошли?
Петрован смолчал, Микулка жалко заскулил, бормоча что-то усталое себе под нос.
— Давай, Василич, запрягать. Поедем.
Петрован вздохнул и молча разгрузился от котомок: сегодня нес он свою и Микулкину. Микулка ослабел, глазенки у него блестели и в горле что-то поскрипывало и задевало, когда он дышал.
Как только сели в кузовок, Микулка сунулся в сено и, свернувшись калачиком, лег и заплакал. Пощупал Петрован голову — даже руку обожгло. Ночевали где-то в поле на жнивье — продрог, простыл парненко…
Всю дорогу молчали. Только, когда въехали в село, Илья сказал:
— Василич, подойди пешком. Паренька довезу. Ежели заворчит — скажу: хворого подвез.
А Микулка и в самом деле ничего не помнил. Вынули его и положили в амбар, где летом спал Илья.
По какой-то темно-желтой или темно-красной норке червячком полз Микулка под землю. Глубоко-глубоко уполз он от поверхности, где растут травы и хлеба, где солнце светит и где так сладко с костыльком, с холщовой сумочкой идти босым и непокрытым шапкой по пыльным, далеким дорогам. Душно и тепло и жарко, тесно теперь ему, а надо ползти дальше. И делаются пальцы рук его, как горы огромные, твердые и тяжелые — один палец весь свет перетянет; то опять делаются маленькими, легкими, как соломинки, — едва нащупает. А надо плыть в вязкой и горячей тине земли глубже и дальше от тех распрекрасных вольных и светлых полей, где только один раз мелькнула женщина с купцом на тройке. Родимая и милая, противная и страшная, неправдишная Дунюшка — сестра… Потом были проблески, приходили в амбар люди: Илья, отец, молодица и старушка, белоголовый мальчик — сын хозяйского Матвея — Провушка; даже раз, сам старик-хозяин с костылем останавливался в дверях, с пухлым, вываливающимся поверх опояски, животом. Что-то говорили, может быть, — жалели, может быть, — дивились, что не умирает долго, а умереть должен. И опять спускался червяком Микулка, сначала в желто-красную, а потом в черно-желтую норку, и полз и полз, изнемогая, и зная хорошо, что никогда не выползет на свет…
Нет, выполз! Выдюжил! В нитку тоненькую вытянулся, вот-вот оборвется. Выполз. Первое, что увидал и понял — щелку в черной покатой крыше амбара, а потом склонившееся, совсем старое лицо отца.
— Ну, што болезный мой! — услышал в первый раз Микулка и так оно было сладостно, так мило и хмельно для первого раза после подземелья, что он закрыл глаза и снова опустился в темную и теплую, но менее удушливую жижу.