Нас будет интересовать не содержание надписей на фигурках, которые мы проанализировали [155], а только заставки и виньетки из книги.
Анализ заставок и чтение надписей на них
№ 65. Первая заставка. Заставки имеют определенный смысл. Рассмотрим первую заставку (рис. 155).
Рис. 155. Первая заставка из работы А. Г. Маша в моем чтении
Человек, делавший заставки, написал: ЖИВОЙ МИКСИС ИЗ БОЖКОВ СЛАВЯН И МНОГИХ ИНТЕРЕСНЫХ ИЗВАЯНИЙ В ЗЕМЛЕ КИМВРОВ. ЗОВ ИХ АВТОРОВ РАНИТ В КРОВЬ РОДОВЫМ РУССКИМ АРОМАТОМ ПРУСОВ И КИМВРОВ РЕЙНА В ХРАМЕ РАДЕГАСТА. В РАБОТЕ МАША РИСУНОК И НАДПИСИ ХРАМА И ОРНАМЕНТ РЕТРЫ ВХОДЯТ В СОКРОВИЩНИЦЫ СЛАВЯНСКОГО НАРОДА.
Постараемся вдуматься в текст данного послания. Итак, судя по первому предложению, автор надписи предупреждает читателя о том, что в земле кимвров, где находился храм Ретры, помещались не только славянские божки, но «живая смесь» (миксис) из этих божков и других изваяний. Мы это уже установили, анализируя фигурки [154], и теперь с удовольствием читаем подтверждение нашим предположениям.
Второе предложение заставки гласит, что пруссы и кимвры Рейна считают русских своими предками и родственниками еще и в XVIII в. настолько, что одно описание славянских богов «ранит в кровь родовым русским ароматом». Заметим, что тут речь идет не о славянах вообще, но именно о русских. Кстати, как надписи на фигурках богов, так и надписи на заставке выполнены по-русски. Таким образом, автор заставки владел русским языком. Более того, он, будучи немцем, прекрасно помнил свое происхождение настолько, что ностальгия по древней русской родине и русской культуре все еще ранила его кровь «родовым русским ароматом».
Но самым значительным является третье предложение, о том, что «… в храме Радегаста. В работе Маша рисунки и надписи храма и орнамент Ретры входят в сокровищницы славянского народа». Неизвестный нам автор заставки передал свое послание потомкам в виде рисунка. Скорее всего, выявление на фигурках связи божков Ретры с русской культурой и для XVIII в. было небезопасно, иначе об этом было бы заявлено открытым текстом. Очевидно, что говорить о славянском прошлом немцев в это время было уже предосудительным. К тому же тут открытым текстом говорится о том, что исследовался храм Радегаста; иными словами, частое употребление слова РАДЕГАСТ на фигурках храма говорит лишь о принадлежности к этому храму, а вовсе не о том, что на данной фигурке изображен именно Радегаст.
Неудивительно, что когда я передал дешифровку надписи на заставке издателю книги о Маше П. В. Тулаеву, он сказал, что ее необходимо снять (удалить из книги) в первую очередь, поскольку заставка относится не к изображению древностей Ретры, а к оформлению книги Маша. Это, дескать, всего лишь украшение книги и читать его не требуется. Поскольку уже тогда начала складываться конфликтная ситуация по поводу моего чтения рисунков, я решил на публикации данного изображения не настаивать, чтобы не подливать масла в огонь. Теперь я понимаю, что поступил опрометчиво: художник-оформитель книги привел свое мнение как один из ее читателей, и это является для нас одним из ярчайших откликов современников на публикацию книги А. Г. Маша.
На самой заставке нам представлены как бы два окошка с одним пейзажем. Слева мы видим озеро в обрамлении группы деревьев, силуэт города на противоположном берегу и высокий холм за ним. Полагаю, что перед нами находится Толлензее, силуэт города Ретры и холм будущего Прильвица. Так, по мнению художника, должна была выглядеть местность в Средние века. Справа же помещена, видимо, картина той же местности в XVIII в.: помелевшее и менее протяженное озеро, стела современного замка на переднем плане, уменьшившийся в размерах холм Прильвица и открывшийся в связи с этим вид на противоположный холм. Так можно истолковать эту заставку, хотя, разумеется, именно такая трактовка изображения не получила прямого подтверждения в тексте кирилловской тайнописи.
Внутренняя часть первой заставки. Вместе с тем я решил продолжить исследование заставок. Внутренняя часть той же заставки проливает некоторый свет на акварелиста фигурок Вогена. На данном фрагменте (рис. 156), как на коре, нанесены штрихи, которые образуют текст: МАШ, ПРИЛЬВИЦ И ВРАНЬЕ, КАК РИСУНОК ДЯДИ ВОГЕНА. Из этой надписи можно понять, что художнику-оформителю книги акварелист Воген приходился дядей, следовательно, художник данных заставок был его племянником. Это вполне понятно: в Германии того времени многие семьи занимались одной профессией, так что если художник Воген писал акварелью, то его племянник вполне мог быть гравером, оформлявшим заставки. Сейчас такая профессия называется книжным дизайном. Сам Даниэль Воген был не просто художником, а издателем книги А. Г. Маша. Вот что он писал об этих обстоятельствах: «Его Светлость принц Карл фон Мекленбург-Штрелиц приказал мне изготовить точные рисунки соответствующего размера. Это я и осуществил со всей тщательностью и достоверностью.
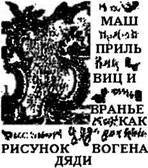
Рис. 156. Внутренняя часть первой заставки и мое чтение надписей на ней
Но ввиду того, что различные любители старины, получив известие о данном мне поручении, захотели получить копии задуманных оригинальных рисунков, в комплекте либо отдельные экземпляры, я вскоре обнаружил, что не смогу выполнить их просьбы, не отвлекаясь от других моих занятий.
На тот случай, если бы кто-нибудь захотел подвергнуть сомнению подлинность и качества всех этих древностей, я решил предоставить копии изготовленных для меня рисунков ученому миру в гравюрах, которые были выполнены с максимальной точностью господином Крюгером, профессором класса рисования в Берлине» [82, с. 17].
Даниэль Воген выражается тут витиевато, но смысл очевиден: кисть акварели не может тягаться с резцом гравера по точности отражения мелких деталей, и потому гравюры отличаются «максимальной точностью», чего нельзя ожидать от акварели, хотя рисунки был осуществлены «со всей тщательностью и достоверностью». Так что дядя Воген заведомо не дал адекватного воспроизведения надписей и пригласил для этой цели в качестве издателя столичного профессора. Кроме того, он же пригласил и художника-оформителя – своего племянника.
Так что первая причина обвинения дяди во вранье была, видимо, та, что акварели по точности воспроизведения уступали гравюрам. Возможно, что Маш мог догадываться о существовании русских надписей, и от него была просьба не выявлять их. Ведь он не считал ни пруссов, ни кимвров русскими (хотя само слово ПРУССИЯ есть упрощенное слово Порусье). Но, вполне вероятно, что выявление мелких деталей вообще не входит в задачи акварелиста. Тем не менее не он, а гравер Крюгер, профессор класса рисования, пошел на хитрость: он все-таки передал русские надписи, но весьма завуалированно, так что мне понадобилось масса времени и предельная наблюдательность для их выявления. А. Г. Маш тем не менее имел дело именно с рисунками Вогена, а не с гравюрами Крюгера, которые были добавлены в текст уже в издательстве. Так что слово «вранье» в первом предположении есть реакция профессионального художника на качество того исходного материала, с которым имел дело А. Г. Маш. И, косвенно, это характеристика результатов эпиграфической деятельности самого Маша.
Не думаю, что и Крюгер был заинтересован в выявлении русских надписей. Более того, мне показалось, что и сам он вряд ли был в состоянии сделать 132 гравюры с предельно четкой прорисью мельчайших деталей. Полагаю, что он гравировал лишь внешние контуры передаваемого изображения, тогда как «мелочовку», то есть врисовывание мелких особенностей поверхности предметов, передавал своим ученикам. Но художник-оформитель, племянник Вогена, критикует только своего дядю, но не Крюгера. А ведь именно ему, художнику-оформителю, приходилось размещать гравюры Крюгера в книге, так что он имел возможность сопоставлять их с акварелями Вогена.