Пятая — нагнетание в обществе шпиономании и военной истерии, в контексте которых преступления против порядка управления приобретали ярко выраженную антисоветскую окраску.
К середине — концу 20-х годов ведущую роль стали играть и профессиональные преступники с дореволюционным стажем. Придя в себя от революционных потрясений и перемен, больно ударивших по уголовному «братству», они решили занять в криминальном сообществе прежние, ведущие позиции.
Как справедливо замечает исследователь этого периода истории преступного мира С. Кузьмин,
«авторитеты старого преступного мира, хорошо знавшие друг друга, приняли решение дать бой «идейным», добиться победы и восстановить свои пошатнувшиеся позиции в преступном сообществе… Они сделали правильный для себя вывод: за политику карательные органы государства преследовали по всей строгости революционных законов, в то время как корыстные преступления с марксистской точки зрения объяснялись пережитками прошлого и экономической ситуацией в стране. Считалось, что с улучшением экономического положения, ликвидацией безработицы уголовная преступность должна отходить в прошлое» («Организованные преступные группировки в местах лишения свободы»).
В российской уголовной среде началось постепенное перераспределение власти. Поначалу это вроде бы не бросалось в глаза. На воле «идейные» по-прежнему играли если не определяющую, то, во всяком случае, довольно значительную роль. Однако в местах лишения свободы (арестных домах, домах предварительного заключения, домах заключения, исправительно-трудовых домах и пр.) «держали верх» преступники «старорежимного» образца, «потомственные арестанты», за плечами которых были царские тюрьмы и каторги. В местах изоляции они адаптировались быстро и легко, проводили свою политику, брали в свои руки бразды правления. На их стороне был огромный опыт, знание тюремных «традиций» и умение выставить себя «защитниками старых заветов». Они прекрасно понимали психологию преступного мира, умело воздействовали на разношёрстную массу босяков.
Криминальных «авторитетов» старого образца в их стремлении объединить и организовать уголовное и арестантское «братство» поддержали и уголовники рангом помельче, но тоже профессионалы. В первую очередь это были карманные воры («ширмачи»), квартирные («домушники»), «налётчики» — специалисты по ограблениям банков, магазинов, учреждений и т. д., поездные воры («майданники»). Все они начали надлежащим образом «обрабатывать» мелких уголовников, которых на воле держали в руках преступники из числа «бывших». Цель была одна: настроить преступный мир, люмпенов, «дно» против уголовных «буржуев», «белой кости», «господ».
Конечно, и без того отношение босяков к представителям бывших имущих классов было прохладное — несмотря даже на то, что «бывшие» теперь влились в ряды криминалитета. Последнее обстоятельство мало что меняло. Ведь даже на царской каторге к каторжанам из «господ» общая арестантская масса проявляла подозрительность, настороженность, недоверие, никогда не признавая этих людей за «своих» — невзирая на видимую общность судьбы. Свидетельств тому много — и у Достоевского в «Записках из Мёртвого дома», и у Якубовича в «Записках бывшего каторжника», и у Свирского, и у Дорошевича…
Если в первое десятилетие Советской власти разношёрстный преступный сброд и пошёл под начало «белой кости», то к этому его вынудили обстоятельства.
Но теперь, когда в дело вмешались опытные профессионалы-уголовники старого закала, всё стало меняться.
Что это были за люди? В уголовном мире их традиционно называли «Иванами» (с ударением на последнем слоге!), «бродягами». Именовали себя профессиональные преступники также «шпана» (в блатном жаргоне это слово не имеет негативного оттенка, в противоположность литературному языку), «шпанское братство», но чаще и охотнее — «урки». Чтобы понять психологию поведения, традиции, мировоззрение этой категории криминального российского сообщества, не лишним будет растолковать подробнее каждый из этих «титулов».
«Иваны» и «бродяги» — одно и то же название уголовно-арестантской касты в дореволюционной России. Первоначально так и в самом деле называли людей без роду-племени, бродяживших по Руси и промышлявших часто преступной деятельностью.
Ну, «бродяга» — понятно. А почему — «иван»? Уточним: полностью определение этих уголовников звучало как «иван, родства не помнящий». Такой оборот перешёл в жаргон арестантов из официальных бумаг. Как известно, Иван — издревле у русских самое распространённое имя: даже в сказках его носят главные герои от последнего дурачка до царевича; не случайно и немецкие оккупанты уже во время Великой Отечественной войны обобщённо называли всех русских мужчин «иванами» (а те, в свою очередь, кликали немцев «фрицами» и «гансами»). Поэтому, когда задержанного бродягу спрашивали о его имени, фамилии, он обычно называл себя просто — «иван». На вопрос же о месте проживания и родственниках следовал стандартный ответ — «не помню». Так и записывали — «Иван, не помнящий родства» (позже этот фразеологизм прочно обоснуется в литературном языке для обозначения человека, который оторвался от своих корней).
В качестве лирического отступления: такова же примерно этимология возникновения знаменитого семейства — «Ростов-папа» и «Одесса-мама». К середине — концу XIX века южные города Ростов и Одесса стали центрами уголовного мира России. И когда профессиональные преступники и бродяги отвечали на вопрос о родственниках, они уже не ссылались на «забывчивость». Разъясняли охотно: «Ростов — папа, Одесса — мама»…
Тогда же, к середине — концу прошлого века, несколько изменяется и смысл понятий «бродяга», «иван». Да, по-прежнему среди этих людей считалось заслугой попасть в «места не столь отдалённые» не за серьёзное уголовное преступление (которых у «иванов» за плечами было немало), а именно за бродяжничество: это значило проявить ловкость, удаль, хитрость, обмануть власть… Но теперь речь шла уже не столько о безродных арестантах, сколько о «королях» каторжного и преступного сообщества. Вот как характеризует «бродяг» П. Якубович, долгое время проведший в качестве каторжника на Акатуйских рудниках:
Бродяги вообще являются сущим наказанием каждой партии. Это люди по преимуществу испорченные, не имеющие за душой, что называется, ни чести, ни совести, но они цепко держатся один за другого и составляют в партии настоящее государство в государстве. Бродяга, по их мнению, высший титул для арестанта, он означает человека, для которого дороже всего на свете воля, который ловок, который может увернуться от всякой кары. В плутовских глазах бродяги так и написано, что какой, мол, он непомнящий! Он не раз, мол, бывал уже «за морем», то есть за Байкалом, да вот не захотел покориться — ушёл!..
Каторжная часть партии, особенно в Западной Сибири, где бродяги составляют большинство, находится обыкновенно в загоне… Бродяги — царьки в арестантском мире, они вертят артелью как хотят, потому что действуют дружно. Они занимают все хлебные, доходные места… Хорошо организованная «бродяжня» помещается всегда на нарах. Староста-бродяга, по обычаю впускаемый в этап раньше всех, ещё до окончания поверки, занимает для товарищей лучшие места, а каторжная кобылка (презрительное название общей массы каторжан. — А.С.) ютится большей частью под нарами, на голом полу, в грязи, темноте и холоде. («В мире отверженных. Записки бывшего каторжника»).
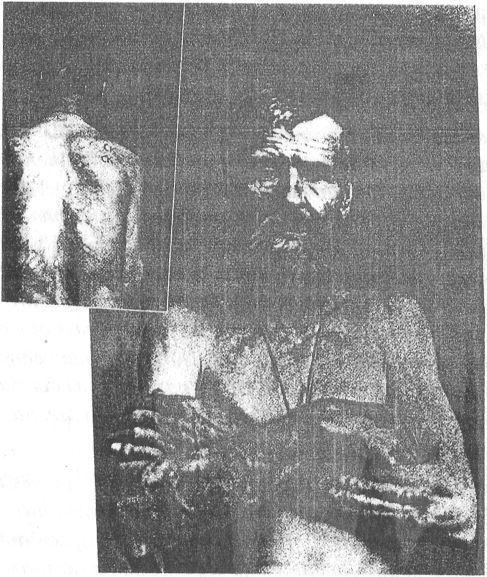
К тому времени, о котором мы ведём речь (конец 20-х — начало 30-х годов), понятие «бродяга» начало активно вытеснять «ивана». Слово «иван» постепенно становилось архаизмом (хотя ещё в 1925–1927 нередко можно было услышать и «иван, не помнящий родства», и даже «иван с волгой» — мелкий уголовник, выдающий себя за «авторитета»). «Бродяга» был для новой криминальной поросли ближе и понятнее… Сохранилось почётное определение «бродяга» по сей день в блатном жаргоне как похвала, положительная характеристика уважаемого преступника и арестанта.