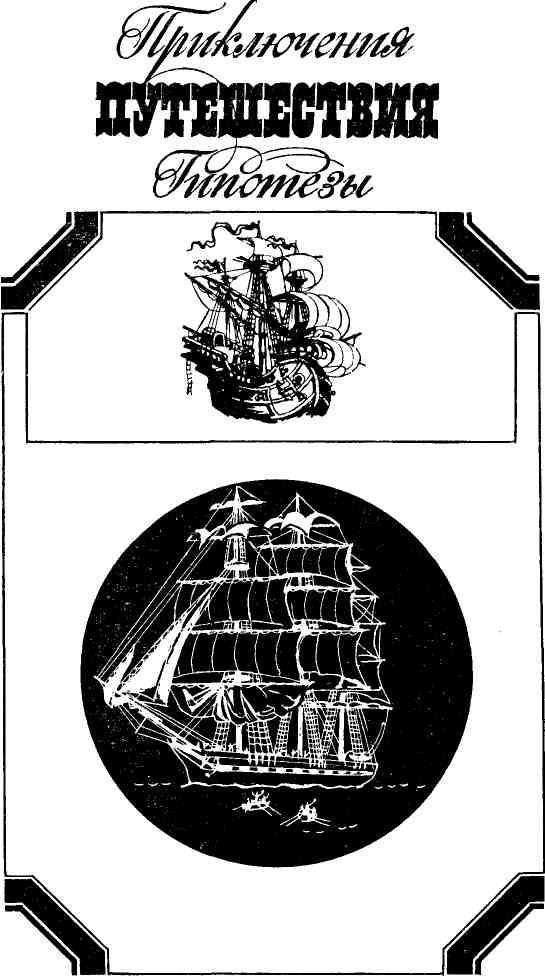— Даже искать нас не стали, — с облегчением сказал Быков, глядя им вслед. — Подумали, что вместе с катером погибли… Ну, Аполлоша, фарватер наш теперь чист, навались на всю мощь. До берега на среднем ходу дотянем. Держись молодцом.
Так они плыли. Минут через двадцать Аполлонов неожиданно вскрикнул, оттолкнулся от «рыбины» и поплыл прочь, взмахивая частыми слабыми саженками.
— Стой! — вслед ему крикнул Быков. — Куда ты? Утонешь!
Но Аполлонов продолжал плыть не оглядываясь. И тогда Быков, понимая, что одному ему не добраться с раненым командиром до берега, и что радист пропадет совершенно бессмысленно, заорал сорвавшимся голосом:
— Стой, застрелю, салага! Застрелю, вернись!
Стрелять Быкову было не из чего. Да и не стал бы он делать этого, окажись у него оружие. Просто ничего другого придумать не мог он, кроме этого окрика, хотя и не надеялся, что Аполлонов послушается. Он жалел, очень жалел его в эти минуты, первогодка, который после учебного отряда не успел даже толком освоиться на катере, а теперь вот уплывал невесть куда и зачем, раненный, обожженный, полуослепший от ожогов. И, понимая, что тот, потеряв контроль над собой, идет на верную гибель, Быков в отчаянии закричал, не почувствовав никакой надежды в собственном голосе:
— Ты же командира бросил, подлец! Стреляю, слышишь? Приказываю, вернись!
И Аполлонов неожиданно послушался, вернулся назад, на его голос. Глаза его бессмысленно плутали, какие-то странные были, вроде бы нетерпеливо отыскивали что-то и не находили. Не мог смотреть Быков в эти глаза, только легонько встряхнул его за плечо.
— Устал?
Все было пустынно на море, и лишь вдалеке виднелись силуэты удалявшихся немецких кораблей.
— Ты, Аполлоша, не надо, — мягко, с уговором сказал Быков. — Ты поспокойней, никого там нет. Фрицы отвязались, ушли. Видишь, вон берег? Туда и поплывем потихоньку. Вот командир только плох, а так ничего. Вдвоем мы с тобой управимся, доберемся до берега — и, считай, дома.
— А из чего стрелять-то хотел в меня? — Аполлонов уставился на него, утирая обожженное лицо ладонью. И непонятно было: то ли воду смахивает, то ли выступивший от напряжения пот. — Не из чего ведь?
— Конечно, не из чего, — ответил Быков, улыбнувшись. — Это так я, пошутил, Аполлоша. Пошутил, сам понимаешь.
— Лицо солью разъедает, — поморщился Аполлонов. — Ожоги саднят. И нога раненая немеет. Плохо вижу я, боцман.
— Ожоги твои подживут. Видишь, командир совсем плох?. Давай на всех оборотах к берегу! — спокойно, но твердо произнес Быков. И увидел, что рассчитал правильно: Аполлонов сердито отвернулся от него и энергично, мощно, словно пароходными плицами, заработал сильными руками.
Лишь к вечеру, обессиленные и продрогшие, они добрались наконец до берега. Накатный вал вынес их на прибрежную гальку, и они так и остались лежать меж валунов, не в силах продвинуться больше ни на метр. Волны выкатывались на берег пенными завитыми жгутами, дыбились среди огромных камней, с гулом разбивались о них и нехотя, обессиленно уползали назад. Вода кипела, высоко и хлестко взлетали брызги, опадая ливневым потоком.
Берег был полог, почти сразу же за кромкой прибоя, метрах в двадцати, начинался непролазный кустарник, а еще дальше за ним сплошной стеной стоял лес. Все это наметанным глазом охватил боцман Быков, остался доволен и решил сразу же уходить в этот лес или, но крайней мере, добраться до кустарника и там переждать ночь. А уж утром выяснить, кому этот берег принадлежит.
Озябшее тело ныло от усталости, гудела голова, точно об нее, а не о берег разбивались мощные накаты прибоя, Быков попытался сжать кулаки, но пальцы не слушались, онемели, и не было никаких сил сдвинуться с места. С тревогой подумал он: окажись здесь сейчас немцы, они с Аполлоновым камнем даже не смогут в них кинуть, и их вместе с командиром возьмут без всякой возни, как цыплят.
Он огляделся кругом, приподняв с трудом голову. Море было пустынно, и Быков устало, но с удовольствием подумал: как бы там дальше ни было, что бы ни случилось, а дело они свое сделали неплохо — на дне, совсем недалеко отсюда, покоится сейчас развороченный торпедой вражеский транспорт. Надо полагать, не с пустыми трюмами он шел… Жаль вот только торпедный катер — тоже, бедняга, нашел себе могилу на дне, но такой размен показался ему необидным и вполне оправданным. Если к тому же прибавить и пробоину на вражеском охотнике — дело и совсем стоящее.
Аполлонов лежал, уткнувшись лицом в мокрую гальку, наползавшие волны плоскими языками облизывали его до самого пояса, но он не шевелился.
На фоне серого, с ветвистыми трещинами огромного валуна Быков видел резко очерченный профиль лейтенанта Федосеева. Командир так и не приходил ни разу в сознание, пока они добирались до берега. Бинт у него на голове потемнел от крови, наверно, совсем просолился, и Быков пожалел, что нет под рукой никакой сухой тряпицы, — сменить бы повязку. Да и Аполлонова перевязать…
— Аполлонов, — позвал потихоньку Быков, — надо нам как-то до кустов добраться. Слышишь?
Аполлонов, не поднимаясь, повернул к нему лицо. Левая щека у него была рябой от мелкой гальки.
— До кустов надо добраться, — повторил Быков опять. — Командира перетащим. Обсушимся малость.
Уже в сумерках они, измученные, похоронили своего командира. Обложили тело камнями, сверху тоже камней навалили. Подальше от воды похоронили, чтобы волны не сумели добраться. Постояли несколько минут. Лунный свет робко струился на свежую могилу, на опущенные их головы, на стонущий от прибоя пустынный берег. О каменные глыбы с грохотом бились волны, сшибались грудью с гранитом, хлопали, как орудийные выстрелы, будто салютовали командиру торпедного катера лейтенанту Федосееву.
— Надо запомнить место, — тихо сказал Быков, рассматривая размокшие в соленой воде документы командира. — Ну, товарищ лейтенант, прощайте. Нам пора уходить.
Сутулясь от усталости и от пережитого, с трудом волоча ноги по хрустевшей гальке, они направились к кустарнику. Шли молча, не глядя друг на друга, думая о погибших своих товарищах — разве можно было представить такое еще сегодняшним утром? — о своем катере и о том, что ждет их самих впереди…
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ПУТЕШЕСТВИЯ, ГИПОТЕЗЫ
И. Чесноков
«ЧУДО МОРСКОЕ»
Повесть
I
Северный океан лежал в июльском штиле. Вдали вода казалась белесой, будто вылинявшей под ярким летним солнцем. Ближе к судну она отдавала лазурью, а под самым бортом, рассекаемая струями, бежавшими от форштевня, становилась темной.
Слева проплывали застывшие громады высоких скалистых берегов Мурмана. Они падали к едва пошевеливавшемуся морю почти отвесными отрогами.
Над скалами, над пароходом висели серо-белые полярные чайки-поморники, большие птицы с желтыми клювами. На воде там и тут сидели черные кайры. Когда пароход приближался, кайры нехотя, хлопая острыми крылышками, отбегали по воде в сторонку.
Двое мужчин в осенних пальто и в шляпах стояли на прогулочной палубе у слегка подрагивающего поручня. Они курили, наблюдая красоты проплывавшего мимо берега.
— Какая, однако, дикая, но дивная природа! — проговорил задумчиво один из них. — Не правда ли?
— И заметьте, неприступная, — согласился второй. Он повернулся к соседу: — Позвольте представиться — Островский Дмитрий Николаевич, советник российского консула в Финмаркене[1]. Мы ведь с вами четвертые сутки путешествуем, и, кажется, в соседних каютах?
— Очень приятно. Рогожцев Николай Львович, карантинный врач, — протянул советнику руку его спутник. — А я, знаете, занемог по выходе из Архангельска, видимо, с непривычки укачало в Белом море. А вас не укачивает?