Бутафор! Катафалк готовь! Вдов в толпу! Мало вдов еще в ней. И взвился в небо фейерверк фактов, один другого чудовищней. Выпучив глаза, маяк из-за гор через океаны плакал; а в океанах эскадры корчились, насаженные мине на́ кол. Дантова ада кошмаром намаранней, громоголосие меди грохотом изоржав, дрожа за Париж, последним на Марне ядром отбивается Жоффр. С юга Константинополь, оскалив мечети, выблевывал вырезанных в Босфор. Волны! Мечите их, впившихся зубами в огрызки просфор. Лес. Ни голоса. Даже нарочен в своей тишине. Смешались их и наши. И только проходят во́роны да ночи, в чернь облачась, чредой монашьей. И снова, грудь обнажая зарядам, плывя по веснам, пробиваясь в зиме, армия за армией, ряд за рядом заливают мили земель. Разгорается. Новых из дубров волок. Огня пентаграмма в пороге луга. Молниями колючих проволок сожраны сожженные в уголь. Батареи добела раскалили жару. Прыгают по трупам городов и сел. Медными мордами жрут всё. Огневержец! Где не найдешь, карая! Впутаюсь ракете, в небо вбегу – с неба, красная, рдея у края, кровь Пегу. И тверди, и воды, и воздух взрыт. Куда направлю опромети шаг? Уже обезумевшая, уже навзрыд, вырываясь, молит душа: «Война! Довольно! Уйми ты их! Уже на земле голо». Метнулись гонимые разбегом убитые, и еще минуту бегут без голов. А над всем этим дьявол зарево зевот дымит. Это в созвездии железнодорожных линий стоит озаренное пороховыми заводами небо в Берлине. Никому не ведомо, дни ли, годы ли, с тех пор как на́ поле первую кровь войне отдали, в чашу земли сцедив по капле. Одинаково – камень, болото, халупа ли, человечьей кровищей вымочили весь его. Везде шаги одинаково хлюпали, меся дымящееся мира месиво. В Ростове рабочий в праздничный отдых захотел воды для самовара выжать, — и отшатнулся: во всех водопроводах сочилась та же рыжая жижа. В телеграфах надрывались машины Морзе. Орали городам об юных они. Где-то на Ваганькове могильщик заерзал. Двинулись факельщики в хмуром Мюнхене. В широко развороченную рану полка раскаленную лапу всунули прожекторы. Подняли одного, бросили в окоп – того, на ноже который! Библеец лицом, изо рва ряса. «Вспомните! За ны! При Понтийстем Пилате!» А ветер ядер в клочки изорвал и мясо и платье. 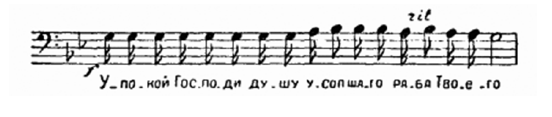 Выдернулась из дыма сотня голов. Не сметь заплаканных глаз им! Заволокло газом. Белые крылья выросли у души, стон солдат в пальбе доносится. «Ты на небо летишь, — удуши, удуши его, победоносца». Бьется грудь неровно… Шутка ли! К богу на́-дом! У рая, в облака бронированного, дверь расшибаю прикладом. Трясутся ангелы, Даже жаль их. Белее перышек личика овал. Где они – боги! «Бежали, все бежали, и Саваоф, и Будда, и Аллах, и Иегова». Ухало. Ахало. Охало. Но уже не та канонада, — повздыхала еще и заглохла. Вылезли с белым. Взмолились: – Не надо! – Никто не просил, чтоб была победа родине начертана. Безрукому огрызку кровавого обеда на черта она?! Последний на штык насажен. Наши отходят на Ковно, на сажень человечьего мяса нашинковано. И когда затихли все, кто напа́дали, лег батальон на батальоне – выбежала смерть и затанцевала на падали, балета скелетов безносая Тальони. Танцует. Ветер из-под носка. Шевельнул папахи, обласкал на мертвом два волоска, и дальше – попахивая. Пятый день в простреленной голове поезда выкручивают за изгибом изгиб. В гниющем вагоне на сорок человек – четыре ноги. |