В «Изборнике» 1076 года обнаруживается совершенно иное содержание. Он составлен Иоанном «из многих книг княжьих». В нём совсем нет того церковно-энциклопедического содержания, каким отличается «Изборник» 1073 года.
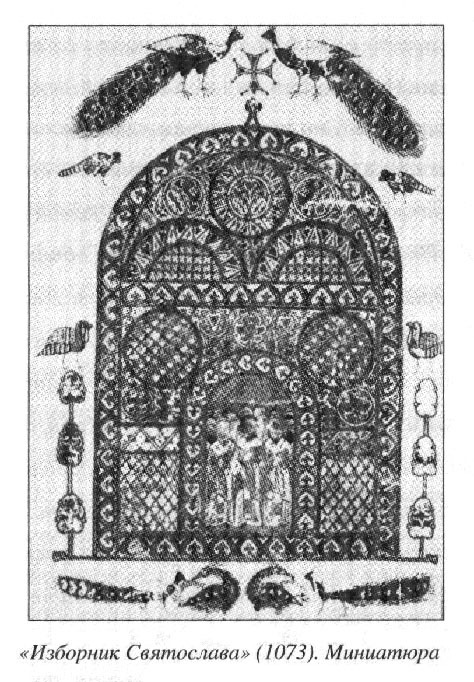
Содержание статей «Изборника» 1076 года почти исключительно общеморальное. Он открывается статьёй о важности и полезности чтения книг, «Словом некоего Калугеря о чтенье книг»; далее следуют: «Слово некоего отца к сыну своему, словеса душеполезна», «Наказание богатым», «Слово, еже правоверну веру имети», «Наказание Исихия пресвитера», «Премудрости похвала», «Иоанна Златоустого слово разумно и полезно», «Святого Василия, како подобает человеку бытии», «Ксенофонта наставление детям своим», «Наставление Феодоры», «Афанасьевы ответы противу нанесённых ему вопросов». Наиболее обширные статьи «Изборника» 1076 года посвящены вопросам и ответам на такие темы, как «О жёнах злых и добрых», «Сто слов» патриарха Геннадия, «Наставление Нила Черноризца» (Синайского) и т.д. Многие из статей, читаемых в этом «Изборнике», позднее помещаются и в древнерусских Измарагдах.
Интересным источником, раскрывающим политическую историю страны, является Повесть временных лет, составленная в начале XII века и дошедшая до нас в нескольких редакциях и списках. Изучением Повести временных лет историки занимаются вот уже несколько столетий, работа над источником продолжается и в наше время.
Структура Повести временных лет и её основные источники были исследованы ещё в начале XX века в трудах выдающегося историка А.А. Шахматова. Он, в частности, считал, что первая редакция Повести временных лет была утрачена. До нас дошли вторая и третья её редакции. Вторая обнаруживается в Лаврентьевской летописи, а третья содержится в составе Ипатьевской летописи, Ипатьевского (XV век) и Хлебниковского (XVI век) списков.
А.А. Шахматов полагал, что первая редакция Повести временных лет была составлена монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в 1110—1112 годах. Вторая редакция Повести временных лет, по убеждению А.А. Шахматова, могла быть составлена игуменом Выдубицкого монастыря Сильвестором в 1116 году, а третья редакция была подготовлена по заказу князя Мстислава I Владимировича в 1118 году.
Автор Повести временных лет начинает своё повествование историей сотворения мира. Затем следует информации об основных исторических событиях русской истории. В хронологическом порядке описываются деяния князей правящей династии. События в летописи доведены до 1117 года. Для Повести временных лет характерны вставки в текст повествования различного рода материалов из других сочинений в переработке и с комментариями.
Одним из источников Повести временных лет являлась византийская Хроника Георгия Амартола, переведённая на славянский язык уже в X—XI веках. Автор Повести временных лет позаимствовал из Хроники известия, относящиеся к обычаям различных народов. При этом он указал на используемый источник — «глаголешь Георгий в летописании». При сравнении текста Хроники Амартола с текстом, размещённым в Повести временных лет, обнаруживается практически дословное совпадение. Из той же Хроники Георгия Амартола уже в следующей редакции, доведённой до 948 года, в состав Повести временных лет попал рассказ о нападении Руси на Царьград в 866 году при Аскольде и Дире. Вероятно также, что текст Хроники лёг в основу рассказа летописца о разделении земли между сыновьями Ноя.
Ещё одним источником для Повести временных лет стал краткий Летописец патриарха Никифора, который вместе с Хроникой Георгия Амартола послужили основой для составления хронологии событий IX—X веков. Рассказ о походе Игоря на Царьград в 941 году, вероятно, был позаимствован летописцем из Жития Василия Нового. Летописец патриарха Константинопольского Никифора (806—815), вероятно, был интересен составителю Повести временных лет тем, что содержал хронологический перечень важнейших событий всемирной истории, доведённый до года смерти автора.
Особое место в Повести временных лет заняли статьи, подготовленные летописцем на основании переработки западнославянского «Сказания о переложении книг на Словенский язык», «Откровения Мефодия Патарского» (дважды упоминаемое в Повести временных лет под 1096 годом) и «Поучение о казнях Божиих». Последнее, включённое в статью 1068 года, представляет собой, как доказал ещё И.И. Срезневский, переработку «Слова о ведре и о казнях Божиих» из «Златоструя».
Среди оригинальных произведений, послуживших источниками для составления Повести временных лет, можно назвать договоры Олега и Игоря с греками, Житие святой Ольги, Житие святого Владимира и некоторые другие.
Как уже неоднократно указывалось, отдельные сюжеты Повести временных лет имеют легендарный характер. К таким сюжетам можно отнести рассказ летописца об основании города Киева тремя братьями — Кием, Щеком и Хоривом. Даже сам летописец указывает, что уже в его время существовали две версии о том, кем был Кий.
Легендарный характер имеет и общеизвестный рассказ о призвании князей-варягов. Возможно, что окончательное оформление данной легенды относится к началу XII века. Очевидно также, что обращение руси, чуди и кривичей к варягам — «земля наша велика и обильна...» — является буквальным заимствованием из англо-саксонской Хроники.
Характер легенды имеют и рассказы о «вещем» Олеге, включённые в Повесть временных лет. Несомненно, легендарным является рассказ о смерти Олега, который будто бы был укушен змеёй, выползшей из черепа его любимого коня. Параллели к этой легенде находим в скандинавских сагах, где встречается тот же мотив. Характер легенды имеют и другие летописные известия об Олеге.
«Наши летописи, — пишет М.Д. Присёлков, — не были литературными произведениями в узком смысле этого слова, а политическими документами. Та правящая верхушка, которая в том или ином феодальном центре налаживала у себя дело летописания, в изложении событий, заносимых на страницы своего летописца, озабочивалась, конечно, не правдивостью передачи, а созданием такого повествования, которое в данном случае было бы выгоднее всего для этой местной политической власти. Поэтому так противоречивы характеристики одних и тех же лиц в известиях, заимствованных из различных летописных сводов»[105].
ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ КНИГИ
Полон верой и любовью,
Верен набожной мечте,
Ave, Mater Dei кровью
Написал он на щите.
А.С. Пушкин
Философия древнерусской книги до сих пор является малоизученным исследовательским аспектом истории древнерусской культуры. Долгое время историки и философы рассматривали философию древнерусской книги исключительно через призму христианской традиции. Однако философия средневекового автора была продиктована не только религиозными убеждениями и традициями, но и общественно-политической ситуацией, а также индивидуальными предпочтениями. Именно поэтому для исследования истории древнерусской книги и её философии так важно изучение традиций и культуры в контексте социально-политической ситуации эпохи. Понять философию средневекового произведения можно только благодаря глубокого изучения истории книги, идеологических причин создания книги и логики автора. Наиболее сложным для понимания вопросом является логика средневекового автора, которой подчинена структура книги и её основной лейтмотив. Так, например, если в современной литературе через тот или иной аллегорический образ, как правило, комментируется состояние общества в целом либо даётся характеристика типичного поведения, свойственного определённой личности, то в средневековой литературе аллегорический образ использовался в произведении в качестве образца правильного поведения или поступка. При этом за поведенческими образцами средневековые писатели всегда обращались к текстам Священного Писания.