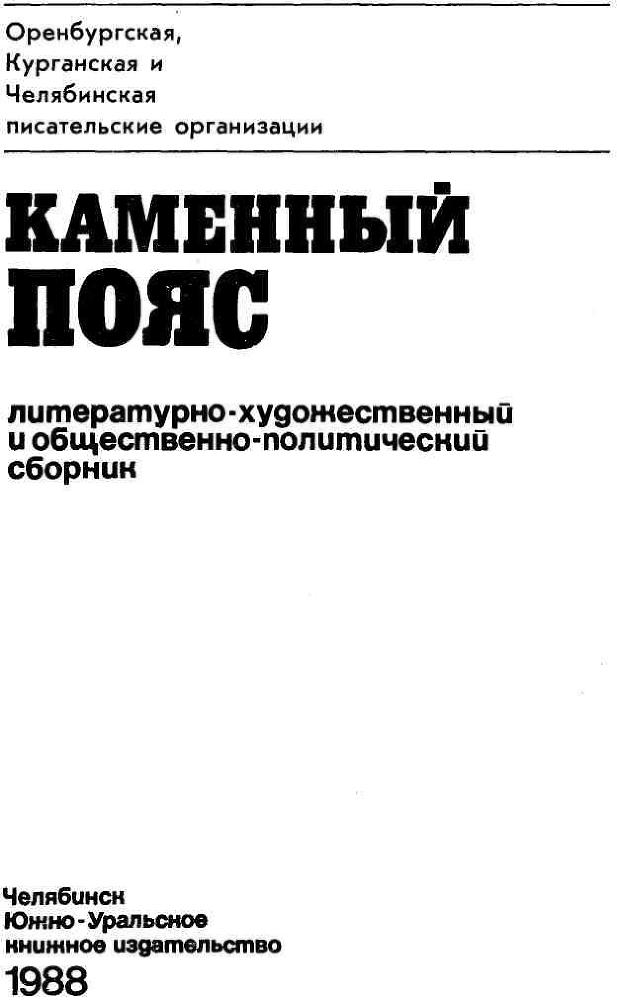Каменный пояс, 1988
Проза
Георгий Саталкин
ИЗ ЖИЗНИ РАЙОННОГО ОПТИМИСТА
Рассказ
I
В последнее время, не зная почему, Гриша Сумкин почувствовал сладенькую тягу к районным учреждениям, различным конторам.
Приехав в какое-нибудь хозяйство, Григорий Степанович тотчас же отыскивал вывеску и, приведя себя в порядок, стряхнув пыль с лацканов пиджачка, потрепав штанины хорошенько, неторопливым, чуть приседающим шагом направлялся к двери под нею. Сощурив один глаз и набочок запрокинув голову, он читал, что было написано на вывеске, а потом солидно, с едва приметной раскорячинкой, поднимался на крыльцо.
Так же солидно, с инспекторским видом окидывал он взглядом стены сеней и коридора — что на них висит, как оформлено, какой давности. Медленным, округлым жестом, не сводя взгляда с какой-нибудь бумажки, лопоухо висящей на одной только кнопке, он доставал из внутреннего кармана пиджачка блокнот, изготавливал шариковую ручку и, сладясь каким-то сквознячком в душе, начинал общаться с безмолвными своими «приятелями».
Вот, например, стенная газета. Стоит только прочесть ее со вниманием, как она обязательно сообщит тебе любопытный фактик.
Вот Доска почета, ей иногда Гриша компанейски подмигивал. Тут все знакомые лица механизаторов и доярок. Две-три цифры к фамилии передовика, к надписи под фотоснимком — вот тебе и зарисовочка, или на худой конец информашка.
Расположились здесь и приказы: кто прогулял, кто трактор в личных целях использовал, за что произведен денежный начет с указанием суммы; кто затерял срочную телефонограмму, из-за чего сорвалось общеобязательное мероприятие, и виновным за это упущение ставится на вид; кому выговор объявлялся, кого предупреждали и требовали повысить ответственность; а допризывникам — явиться в военкомат.
Эти пухленькие серенькие строчки — вывешивали-то второй экземпляр — Гриша читал с тайною жадностью. Перед его глазами разворачивалась жизнь со всеми ее горькими приключениями. Та жизнь, о которой он почти не писал в своей газетке и которую не то чтобы разучился узнавать самостоятельно, а просто некогда было вникать в нее.
Его постоянно понукала задача: набить побыстрее блокнот цифирью, фактами, фамилиями и бегом за стол вырабатывать месячную норму. А писал он тяжело. Слова ему плохо подчинялись. Иной раз, капризничая, вообще разбегались кто куда: на речку, в магазин, домой на диван, просто на улицу. Идет какое-нибудь «вставнатрудовуювахту» по тротуару и никакими силами его оттуда не завернешь в строку.
Естественно, из-за своей симпатии к конторам, которые надежно ему служили, дальше центральных усадеб Гриша в командировках не попадал, и был очень доволен собой: не каждый до этого додумается, да и не каждый сумеет выкрутиться с газетными материалами вот так — и опыт нужен, и некоторая даже отвага: за соломинку схватился, но плывет!
Но как-то раз он прозевал поворот на центральную усадьбу колхоза, угодья которого забились в самый дальний, глухой угол района, и попутный грузовичок повез его дальше.
Дорога потихоньку поднималась на древний, широко разлегшийся водораздел. Справа виляла степная речушка, упрятанная в голубоватых полынных лужках. У воды, шарами раздув зеленые юбки, сидели ивовые кусты. Сторожевыми отрядами теснились по берегам суровые камыши. А противоположный склон долины, прозрачно заслоненный пространством, легко нес на своем гигантском боку квадратики и прямоугольники полей, светлые нитки дорог, шрамы оврагов, обнажавших красное тело земли.
И в этой уклонной долине то там, то тут горстями лепились к воде степняцкие редкие села, где либо бригада была, либо только ферма всего и осталась. Повидал на своем веку Григорий Степанович захолустных деревушек, смирно коротающих время! День тут можно пробегать — и с пустым блокнотом уедешь. То бригадира не найдут, пропал, а куда — никто этого не знает, то где-то в гостях чай пьет чабан, то доярка с мужем расскандалилась и ей не до газетчика.
Скучно писать о селах, доживающих свой век, да и о чем? Что можно о них сказать? Совершенно ведь нечего! И постепенно все они приобрели в глазах Григория Степановича стертое, невыразительное лицо…
Наконец, возле самой дальней деревушки, на высоких плечах увала, где шаг только до горизонта, он распрощался с шофером. Машина укатила, а ноющий плач ее мотора, прихлопывание бортов, железный лязг затворов словно бы остался на месте, — так медленно, так долго угасали здесь звуки.
Тишина, покой, безлюдье…
Даже ковыль, прежний хозяин степи, светлел лишь по ложбинкам и буграм. Иззелена-седые, стекловидные пучки его гладил и ласкал прозрачно-мозольный ветер. Но так же, как и везде, на этом краю земли распаханы поля, зреют на них хлеба. Целые массивы изнывают томными волнами созревания на десятках, сотнях видимых верст — и ни одного человека! Пустынные пространства, гулкий небесный купол, а под ним — только он, единственная живая здесь душа. Гриша повернулся назад, посмотрел вокруг себя и дальше бросил взгляд, и еще дальше, и в самой уже запредельной дали стало видно ему, как под прозрачной воздушной сорочкой круглится материнская грудь земли.
И все в нем как-то разом примолкло, унялась глухая озабоченность, ни на минуту не покидавшая прежде. С виноватым вниманием вглядывался он в привычную картину: низкие, из зеленоватого и красного плитняка ограды, саманные избы с длинной ступенчатой пристройкой сараев, низкие клены в разгороженных палисадниках. Широкая, пустая улица… Ни курицы, ни кошки, ни собаки.
Вон, правда, колодец, одиноко одушевляющий округу. Но ведро не поднято, уходит цепь в провал сруба, и жалостливо оголено костисто-желтое цевье, источенное посредине. Даже грязь вокруг коряво и крепко засохла, зацементировались коровьи следы. Только на самом их дне виднелся неподвижно открытый зрачок иссыхающей влаги.
Да матушка ты моя, милая, жалкая, равнодушная к своей старости, сну среди бела дня! Чем же ты тут живешь?
Гриша вытер пот. Знойный воздух был пусто белес. Ветерок, как золу, вздувал бесшумную пыль… Вдруг он замер: на лавочке у иссохших ворот сидела старуха, н е п р а в д о п о д о б н о похожая на его покойную бабушку, Ефросинью Федоровну. Гриша, зажмурившись, тряхнул головой. Разжал глаза — теперь она согбенно шла от колодца с ведром. Но воды в нем, кажется, не было — с пустым ведром она шла от колодца!
Что за… ерунда! Он понимал: этого быть не может! Но глаза-то видели покойницу. Она на него взглянула!!! Безмолвный, тихий укор ее обдал Гришу ледяным ужасом, остановившим на мгновение сердце. И тотчас страшно его осенило, он догадался: это — знак, предвестник… господи! Невозможно мысленно даже произнести — чего…
Бабушка Ефросинья, ныне покойница, да и мамка, да и тетка Полина не раз, бывало, рассказывали, как дедушке Петру Маркеловичу некие знамения стали являться за год до смерти. Может быть, со страху или по иной причине дедушка чуть ли не каждому встречному-поперечному докладывал: а вот мне виденье было, ох, умру скоро. Годок мне осталось жизни. Через этот срок и призовет меня господь бог к себе…
Никто, конечно, всерьез этих слов не принимал. Над ним посмеивались, стыдили и даже кричали, сердясь на эти выдумки. Дедушка будто и не слыхал этих голосов, другому внимал. Как бы там ни было, а только примерно через год он и умер. Гриша помнит, как на похоронах все жалели, что не слушали его, на целый год оставили одного со смертью.
Тетка Полина с торжеством, которое Гриша никак не мог постичь, подчеркивала не один раз: во-от, не внушал бы себе, не разглашал бы по всей округе, глядишь, жил бы и по сей день. Накликал Петр Маркелович смертыньку, зазвал ее в гости к себе, ну — теперь и сам на вечном пиру у нее. Иногда так и подмывало оборвать ее, возразить, поспорить, но что-то удерживало его. Может быть, уважение и даже почтение, какие в детстве питал к деду. Может быть, отдаленная и жутковатая вера в то, что именно так и было: предчувствовал, знал!