* * * Я б сказала, чем пахнет свобода, У которой мы нынче в рабах, Но божественный луч небосвода На моих золотится губах, Он играет замочком улыбки И велит прикусить язычок, — Быть, как джокер, чьи мглупости гибки, Быть, как дурочка и дурачок, Быть с приветом!.. Средь фейских сиятельств Тратить жизни последнюю треть, Чтобы зверем не стать обстоятельств И в люблёвые мглуби смотреть. * * * Отчаянье когда непобедимо, Я превращаюсь просто в кольца дыма И улетаю, – нет меня нигде. Вы не дождётесь от меня ни жалоб, Ни гнева, ни презренья… С тех я палуб, Что плавают и тонут не в воде, А в воздухе, в моём последнем вдохе И выдохе, в том ритме певчей крохи, Которая в дыму морозной мглы Щебечет так отчаянно, родимо, Отчаянье когда непобедимо, А крылышки божественно малы… * * * Тоскую по сестре, Истаявшей в костре Мучительных страданий. Мне снится иногда Прозрачная вода, Текучий мир свиданий, Тончайших струй витьё, А там – лицо её, Пронизанное светом, С улыбкой молодой — Лицо под той водой, Но плоти нет при этом… Её прекрасный лик Ласкает солнца блик, И нега благодати Запечатлелась в нём. Но плачу я огнём И прожигаю платье. * * * Прилетала сестра моя – голубка, Неземного окраса с позолотой, Прилетала её хрупкая дымка, На балконное перильце садилась, Я давала ей белого хлеба, А над Киевом плакало небо, И была там бела, как стена, я. Ешь, голубка, сестра моя родная, — Год как нет тебя, лицо твоё снится, А душа твоя – птица прозрачная, Хрупкая дымка с позолотой, — Обижают её жирные голуби, Отнимают у неё пропитание, И одно у меня утешение — Ты мне снишься, сестра моя, голубка, Я во сне тебя вижу на балконе, Обливаюсь во сне я слезами И кормлю тебя хлебом из ладони, Из ладони, спящей с открытыми глазами. * * * Человек устал бояться… У него пропала речь, У него пропала память, он не курит и не пьёт, Никаких привычек вредных, не способны мысли течь, Тихо капельница каплет в тонкой кожи переплёт. Человек устал стремиться… Никого не узнавая, Тайным зрением во мраке ищет вечность – мать с отцом, И совсем иначе видит то, над чем ты, завывая, Видишь только смертный ужас, маску путая с лицом. Помолись за человека, за его последний выдох, — Чтоб из плоти лёгкий выход был душе на этом свете. И запомни – там, где вечность, речи нет о внешних видах, Там не выглядят… И смерти не бывает после смерти. 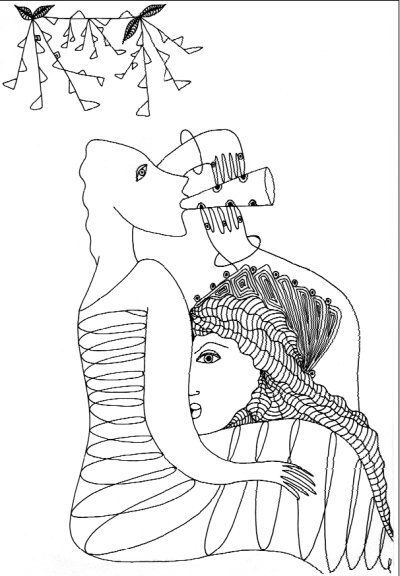 Ни в мраморе, ни в бронзе не хочу, Амбиций мелких нет в моей природе, Такие глыбы мне не по плечу, Тем более, когда их пошлость в моде. Нет, от меня вы не дождётесь никогда Таких припадков тошнотворной лести, Как вопли, что взойдёт моя звезда Посмертно и воздастся мне по чести. С какой мне стати в эту лживопись впадать, Надежды светом озаряя людоедство? Нет, не подам я вам надежды благодать, Что мне воздастся за прекрасное поэтство. С какой мне стати вдруг впадать в такую бесь?.. Я – не концерт и потому боюсь оваций, Боюсь панически всего, что входит в смесь Музейных комплексов, чтоб там обосноваться. Ни славы блеск, ни бешеный успех Не внятны мне как зажигательные средства. Поэтка, я поэтствую для тех, Кто мне, живьём, люблями платит за поэтство. Ни в мраморе, ни в бронзе не хочу, — Когда истаю, не нужна мне эта глыба. Люблями в храме ты зажги тогда свечу И, хлеба нищему подав, скажи спасибо. * * * Ссученный, раскрученный, тусовками окученный, критикой, политикой, трещотками озвученный, свитою увитый, всего же неприятней — на заказ убитый этой холуятней, вписанной в программу гробовых объятий, в оперу и драму скучных хрестоматий… Из таких вот штучек шьётся слава, детка. Не хоти, мой внучек, иметь такого предка. Апрельской вербы серебро На прутьях красных. Здесь гласных полное ведро, Ведро согласных. Распахнуто в подземный хлад Окно колодца, И там до слёз мне кто-то рад, — Как сладко пьётся!.. Как сладко пьётся в глубине, Где всхлип отрады, И трепет в каплющей струне, И капель взгляды, Когда целуется ведро С нутром колодца И брёвен каждое ребро Поётся, пьётся. Душа колодца дышит мглой, Она слезится, Воды зеркален каждый слой, Там льются лица. В подземном царстве нет зеркал, Зеркален кладезь, Где бездна черпает вокал, С ведром наладясь… |