* * * Переделкино. Труппа писателей. Этой труппы союз и погост. Электрички летят по касательной. Я в одном проживаю из гнёзд — В общежитии, где отопление Хуже некуда в зимние дни, Хуже этого – только томление Членов труппы, чья слава в тени. Девятнадцать мне лет, я – в студенчестве, Вещества мои снежно пищат, В склянки бьют и звенят, как бубенчики… Этот мостик воспет, эти птенчики, Окон свет на воспетых вещах, Всё воспето – кустарника этого Каждый листик, что вырос и сгнил. Нету здесь ничего не воспетого, Грусть включая грядущих могил. Все калитки воспеты, ступенечки, Родника ледяной кипяток, Этой труппы романы и фенечки Следопытит проворный знаток… Я бежала, как пленник из крепости, Из таких замечательных мест. В этой труппе и в этой воспетости Был на всём смертолюбия крест. Там, конечно, велась бухгалтерия Строк, листов, уходящих во мрак… Но поскольку Россия – империя, Императором был Пастернак.  Маленькая Эстония была огромной Европой. Она воевала художественно, и в этом – Большой Секрет. Там был всенародный сговор: одежду вяжи и штопай Художественно!.. Эстонцы умели носить берет. И был этот край суровый художественно согрет. Художественное чувство собственного достоинства, Художественные дети, художественные старики, — Такое вот всенародное художественное воинство, Художественные дивизии, художественные полки. Огромное Сопротивление художественной реки!.. В маленькую Эстонию ездила я с тетрадкой, Поэзию рисовала, в прекрасных была гостях, Юмор там был художественный, С привкусом жизни сладкой, — Речь идёт об эстонцах, сидевших при всех властях В тюрьмах (а не в кофейнях!) и в лагерных областях. Маленькая Эстония не била тогда на жалость, Огромной такой Европой была для меня она. Маленькая Эстония художественно сражалась За собственное достоинство!.. Это была война. Ни в какую другую Европу не пускала меня страна. Но в маленькую Эстонию ездила я свободно. Художественные дети, художественные старики. Совсем не то, что в Европе, в той Эстонии было модно. Огромное Сопротивление художественной реки!.. Та Эстония – образ жизни – обстоятельствам вопреки. 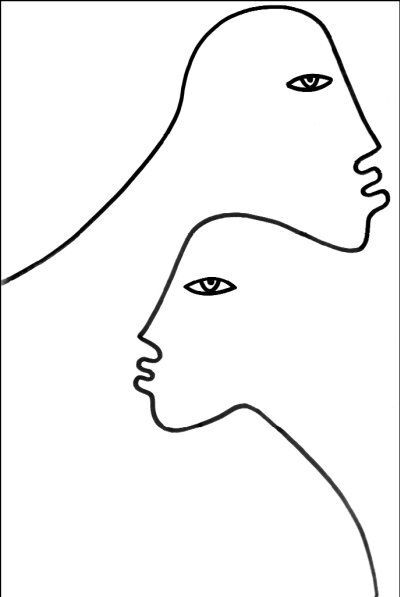 Затонула субмарина, Субмарина затонула, В Баренцевом субмарина Затонула море… Затонули все отсеки, Всех отсеков человеки, В человеках все отсеки Затонули в субмарине В Баренцевом море. Затонули по-российски, Не спасти их по-английски, Не спасти их по-норвежски… Крик спасенья, крик спасенья, — Надо знать язык спасенья! Опоздав, язык спасенья Непонятен субмарине, Затонувшей в ту субботу В Баренцевом море. Там лежат во тьме веков Сто восемнадцать моряков, Не увидят облаков Сто восемнадцать моряков, Не раздышат позвонков Сто восемнадцать моряков. Затонули все отсеки, Всех отсеков человеки, В человеках все отсеки, Затонули жизни звуки В Баренцевом море. Англичане и норвеги Устремились в дружном беге В Баренцево к субмарине, Затонувшей в море… Затонули по-российски, Не спасти их по-английски, Не спасти их по-норвежски. Надо знать язык спасенья, — Опоздав, язык спасенья Непонятен субмарине, Затонувшей в ту субботу В Баренцевом море… * * * Я была его моложе лет на триста, И гуляли мы по крошечной стране, Где земля была скалиста, небо мглисто И злопамятна история на дне. Дно лежало под холодными волнами И сосало там божественный янтарь, Временами валунами перед нами Грохоча, когда штормило календарь. Это было не пространство с населеньем, А страна, которой речью был народ, — И не дай Господь остаться там вкрапленьем, Слишком свежим, как на шляпе огород. По утрам в таверне, связанной из ниток Путешественного солнца и дождя, Пили кофе – путешественный напиток, Путешественно свободу сняв с гвоздя. До сих пор не спят на том и этом свете Следопыточная злоба и донос, Что свободны путешественные дети И живьём их разлучить не удалось. Красота – она так нагло раздражает Путешественной свободой, чёрт возьми, — Вот секрет, который вечно дорожает!.. А красивость – одомашнена людьми.  * * * Исчезли те века, та речь, тот образ быта, Посуда и бельё, и транспорт с бубенцом, — Но не исчезло то, что начисто забыто И дышит на руке утраченным кольцом, Которое скользит, как взгляд, лишённый цели, Как голая душа, как воздух над рекой, И вдруг – слепящий свет, тот век, тот быт, те трели Сполна возвращены забытою строкой, Какой-то не такой, не здешней, не сейчасной, Не знающей совсем – как здесь себя вести, Поэтому она не может быть несчастной, Печататься хотеть, о Господи, прости… |