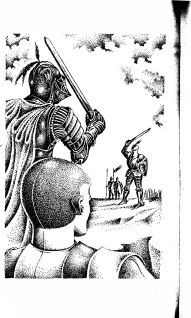Он знал: в нескольких часах пути отсюда, в Страсбурге, живет папский инквизитор, чьи особые полномочия распространяются на всю Германию… Один костер Диффенбах видел сам: сжигали трех человек, обвиненных в том, что они принадлежали к секте люцифериан. Старик, привязанный к столбу, обложенный хворостом, кричал, что пламя будет золотой колесницей, она вознесет их на небо… Когда хворост подожгли и сжигаемые закричали от боли, Диффенбах поспешил выбраться из толпы, не мог вынести этого зрелища…
— Я надеюсь, что святая инквизиция не сочтет меня преступившим закон божий, — вслух выговорил Диффенбах. — Я никогда не уклонялся от исповеди и святого причастия…
— Дорогой Диффенбах, надеюсь, вы не думаете, что я послан к вам инквизицией! Это было бы ужасно. Для вашего успокоения могу сказать одно: историкам удалось выявить имена всех сожженных на кострах, и вашего имени в составленном списке нет.
— Слава богу, если так…
Диффенбах распахнул дверцы дубового шкафа, достал кувшин с вином, хлеб и початый круг сыра.
— Спасибо, я не могу ни есть, ни пить, — Раумер прижал ладони к груди. — Условия эксперимента… Тем более что вино может оказаться для меня слишком крепким, я могу что-то забыть, перепутать…
Диффенбах поставил на стол две глиняные кружки, налил обе дополна. Сказал:
— Да не оставит нас милость божья! — и осушил свою кружку.
Раумер шумно вздохнул:
— Ну что ж, рискну один глоток… За нашу общую удачу, Диффенбах! — Отхлебнул, отставил кружку. А теперь — к делу! Я вижу перья, чернильницу, доставайте большой лист бумаги, да не один… Я надеюсь, у вас есть бумага?… Итак, записывайте!
Более трех часов Раумер говорил подробно, стараясь быть понятым, о химическом составе воздуха и о воздействии кислорода на металлы, о секрете производства жаростойкого стекла и оптических линз, о принципах устройства зрительной трубы, лейденской банки и барометра. Диффенбах переспрашивал, недоумевал, но все подробно записывал плохо очиненным гусиным пером. Раумер похлопывал его по плечу:
— У вас будет время все это проверить на опыте, — и рассказывал о простейших опытах, которыми можно обосновать все перечисленные открытия.
— Теперь расскажите, как вы получаете золото! — взволнованно попросил Диффенбах.
— Получать золото искусственным путем не умеем. Могу вас уверить, что и ваши попытки ни к чему не приведут.
— Но я уже добился! — вскричал Диффенбах. — Я могу создать тончайшую пленку золота на медной монете… Из ртути!
— У вас, очевидно, получается медная амальгама…
— Что?
— Ну, иначе говоря, сплав меди и ртути… Бросьте это дело!
— Но герцог ждет от меня золота!
— А вы поднесите ему первую в мире зрительную трубу. Он утешится.
— Ах, вы не знаете нашего герцога…
Они замолчали. И в наступившей тишине внезапно расслышали шорох за дверью.
— Кто-то нас подслушивает, — побледнев, тихо произнес Раумер.
Тут уже явственно послышались чьи-то удаляющиеся шаги — вниз по лестнице.
— Если этот человек вернется… или другой, все равно… ни в коем случае не отпирайте дверь, Диффенбах… Мне осталось четверть часа, не больше… И еще, последнее, хотел бы вам сказать. Ваши — теперь уже ваши! — открытия не держите в очень уж большой тайне. О них должен узнать ученый мир. И в Вене, и в Праге, и в Гейдедьберге, и в Париже… Наука должна получить мощный толчок! Все свои записи вам надо передать какой-нибудь академии…
Они стояли у окна и ждали, когда часы на ратуше пробьют десять. Дождь кончился, за окном было тихо.
— Пахнет мокрой листвой, — сказал Раумер. — Удивительно, что в четырнадцатом веке точно так же, как и в двадцать первом… Впрочем, ничего удивительного.
Так и должно быть…
Пробило десять.
— Дорогой Диффенбах, мне остается с вами попрощаться.
Они обнялись. Раумер отошел, сел прямо на пол, обхватил руками колени и закрыл глаза.
Диффенбах дрожащей рукой взял кувшин, налил себе в кружку еще вина. Выпил, поставил кружку на стол и оглянулся.
Раумер исчез. Словно его и не было.
А записи лежали на столе. Диффенбах принялся их перечитывать, вдумываясь в каждое слово. И в это время на лестнице снова послышались шаги — на этот раз твердые, уверенные.
И вот — решительный стук в дверь:
— Именем святой инквизиции — откройте!
Ах, если бы у него была веревочная лестница, он бы сейчас опустил ее за окно! Или, лучше, не лестница, а просто здоровое сердце и сильные руки — он бы свернул все свои записи в трубку, сунул за пазуху и прыгнул бы отсюда прямо на ветви дерева, в густую крону под самым окном! Ах, если бы, если бы… Но ему оставалось только отодвинуть чугунный засов.
Дверь распахнулась, перед ним стояли неизвестный монах с факелом в руке и два стражника с алебардами.
— Игнациус Диффенбах! С кем ты разговаривал сегодня вечером в этой башне? — грозно спросил монах.
— Ни с кем, — внезапно охрипнув, ответил Диффенбах. — То есть я говорил сам с собой… Я часто разговариваю сам с собой, когда один…
— Но здесь я слышал не один, а два голоса! — крикнул монах. — Ты разговаривал с дьяволом!
Он ворвался в комнату:
— Здесь пахнет серой! — схватил со стола записи Диффенбаха. — И ты еще записывал то, что диктовал тебе сатана!
Монах поднес к бумаге горящий факел, бумага вспыхнула… Диффенбах вскинул руки… И тут же ощутил острую боль в сердце, упал лицом на каменный пол, изо рта потекла струйка крови Стражник ударил его сапогом, но Диффенбах уже не чувствовал ничего.
ОЛЬГА ЛАРИОНОВА
ЧАКРА КЕНТАВРА
Повесть
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОЧЬ ДЖАСПЕРА
1. ТРЕТИЙ В ИГРЕ — РОК
Голос возник в анфиладе вечерних покоев. Он еще не звучал, незваный и неминуемый, а сторожевые вьюнки, свисавшие со стрельчатых прохладных арок филигранных комнаток, следующих друг за другом, как составленные в ряд шкатулки, уже уловили присутствие постороннего и пугливо свернули свои паутинные стебельки в упругие спиральки. Нездешние цветы и травы, чеканные накладки стен и потолков… Здесь все оставалось так же, как было при жизни Тариты-Мур — властной и одинокой хозяйки этих покоев, любившей проводить предзакатные часы нелегких раздумий в уединенной тишине своего зимнего сада.
Теперь он, эрл Асмур, ее сын, владетельный ленник короля всегда зеленого и когда-то счастливого Джаспера, был полновластным и единоличным хозяином всего необозримого в своей протяженности замка, и только сервы, позвякивая членистыми манипуляторами, исчезали при его приближении; но, кроме всей это безликой полупресмыкающейся армии, ни единой тени не возникало в древних прадедовских стенах.
Впрочем, в былые времена здесь появлялась скользящая светлая тень, но он гнал от себя это воспоминание, ибо в настоящем этому уже не было места…
Внезапно воздух в комнате уплотнился и затрепетал — верный признак того, что здесь возникло неощутимое.
— Мой слух принадлежит тебе, вошедший без зова! — проговорил Асмур, нарочито сдержанно, пряча природное высокомерие — кем бы ни оказался его невидимый собеседник, он заведомо ниже по роду и титулу; но раз уж этого разговора не избежать, то надо хотя бы постараться побыстрее его закончить, а сдержанность — сестра краткости.
— Эрл Асмур… — высокий юношеский голос зазвучал и сорвался. Голос, чересчур звонкий для комнаты-шкатулки. — Высокородный эрл, как велит нам закон предков, мы собрались у наших летучих кораблей; нас девять, и у каждого из нас на перчатке тот, кто ждет выполнения Уговора.
Юноша говорил учтиво, и главное — сегодня он имел право говорить без вызова. Потому что десятым кораблем должен стать именно корабль Асмура. Ему — вести армаду, им, — подчиняться. Тот, кто говорил сейчас с ним, был самым юным, хотя на все время похода эти девять становились равными друг другу. Но право докладывать командору о готовности отряда по многовековой традиции предоставлялось младшему.