Глава 4 ОБРЕЗАНИЕ. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ Событие обрезания и наречения имени Спасителю, отмеченное кратко в Евангелии Луки (II, 21), очень долго не находило выражения в памятниках искусства. В нем выступает одна из черт ветхозаветной обрядности, утратившей свое значение в Новом завете; в частности, именно эта черта прямо и решительно отвергнута была на апостольском соборе в Иерусалиме (Деян. XV, 1-32; Гал. II, 3). В самом характере события, относящегося к Ветхому завету и имеющего второстепенное значение в истории христианства, заключается причина, почему оно сравнительно мало обращало на себя внимание христианских художников. Даже установление особого праздника в честь обрезания Господня в IV в.[813] не вызвало художественного интереса к нему. Сущность события, помимо его слабого исторического значения, не давала особенно благодарной темы для художественной обработки. Не только от древнехристианского периода, но даже и от первых веков истории византийского искусства мы не имеем ни одного изображения обрезания Господня. В первый раз встречаем его в ватиканском минологии X в.[814]: миниатюра (1 Янв.) простая, скромная, исполненная Нестором (рис. 50). Место действия — палаты. Седой старец с открытой головой, в бледно-розовом плаще и темно-коричневой тунике, стоит с ножиком в руках; перед ним Иосиф и Мария держат Младенца. Кто этот старец — из миниатюры не видно; относящийся сюда текст минология также не дает разъяснений. В ватиканском Евангелии № 1156 (1 Янв.) Богоматерь с Младенцем сидит на троне, а за ней стоит Иосиф. Неизвестное лицо в короткой тунике (священник?) намеревается взять Младенца[815]. В позднейших памятниках греческих можем указать обрезание на южной стороне параклиса Св. Димитрия в афоноватопедском монастыре: Богоматерь держит на руках Младенца; перед ней старец в первосвященнических одеждах, и жертвенник. В древнейших памятниках русских мы не встречали его; нет его также и в древнейших русских подлинниках, равно как и в греческом; но в позднейших XVII–XIX вв. оно есть. Описание сюжета в этих последних показывает две любопытные черты: 1) схема обрезания близко подходила к схеме сретения, и потому в некоторых подлинниках делается ссылка на последнее изображение как образцовое по отношению к обрезанию; 2) обстановка сюжета иногда заимствуется из живой действительности, и изображение ветхозаветного обряда получает новозаветный характер. «Обрезание пишется аки встретение Господне; вместо Симеона стоит Захария; пред ним стоит Богородица, держит Предвечнаго Младенца Господа нашего Иисуса Христа; промеж Захариею и Богородицею престол… (на нем) книга да ножницы (?); за Богородицею стоит Иосиф, а за ним толпа людей; палаты сретенския» (подл. С.-Петерб. дух. акад. AIV/4; ср. подл. публ. библ.№ 1928; 1931;О.XIII,4;О. XIII,8; собр. Погодина№ 321). Другой подлинник говорит: «в церкви поп, аки Власий, стоит, риза Захариина; Пречистая держит Младенца, а поп держит в руке нож, а в другой блюдо; за Богородицею Иосиф» (подл. публ. библ. О. XIII, 3; то же О. XIII, 9 и 1931). Подлинник критической редакции оттеняет ветхозаветный характер события, хотя и называет ветхозаветного архиерея святителем: «во святилище стоит архиерей ветхозаконный; сед, брада долгая, риза на нем, аки на Захарии пророке, на главе колпак по ветхому закону. Против него Пречистая Богородица в руках держит Предвечного Младенца, ноги голы; святитель оный держит в руке нож, а другой держит блюдо; а за Богородицею стоит Иосиф и ины, разным подобием» (подл. С.-Петерб. дух. акад., № 116 л. 91 об.; подл., изд. Филимоновым, стр. 230–231). В уцелевших изображениях XVII в. то же смешение ветхозаветных форм с новозаветными: престол с Евангелием и четырехконечным крестом; на нем стоит Младенец, поддерживаемый первосвященником; возле Престола Богоматерь на коленях; тут же Иосиф и толпа народа в шапках. Так изображено обрезание в ипатьевском Евангелии 1681 г. На иконе (святцы) киевского церковно-археологического музея XVII в. действие происходит в храме; у святилища стоит первосвященник с орудием вроде копья в правой руке. Богоматерь держит перед ним одетого Младенца; за ней Иосиф[816]. Миниатюра сийского Евангелия (л. 783) повторяет схему сретения: престол; налево старец Симеон (имя его означено в надписи) с ножом; направо Богоматерь держит Младенца; неизвестная женщина (= Анна в сретении), Иосиф и народ. В петропавловском Евангелии два священника с тиарами на головах, как в памятниках западных, держат Младенца над престолом, у одного из них металлический нож в руке; по сторонам престола стоят Иосиф и Мария.
Древнейшее из известных нам изображений обрезания на Западе примыкает прямо к византийским образцам; это — миниатюра в зальцбургском антифонарии ΧΙ-ΧΙ1 вв.[817] Младенец Иисус на руках Богоматери, позади которой стоит Иосиф; первосвященник с ножом в руке приближается к Иисусу в сопровождении слуги (рис. 51). И типы действующих лиц — суровые, старческие, — и одежды свидетельствуют о подражании византийским, образцам. В рукописи национальной библиотеки XIII в. № 9561 (л. 134): первосвященник принимает Младенца от Богоматери; за ним неизвестное лицо, по-видимому священник, держит в руках золотой сосуд. Сочинение удачное: в картине дан намек на факт, но опущены резкие обнаружения его. Противоположный характер имеет миниатюра с рукописи XV в. той же библиотеки № 1176: Младенец лежит на столе; священник приближается к Нему с металлическим ножом в руке: композиция грубая и несогласная с историей. Отметим еще миниатюры в рукописях XIV в.: испанском бревиарии публичной библиотеки (F. V. XIV, № 1), поэме Польувиля (там же), в бревиарии Гримани[818], статуэтку музея Клюни № 716, картину в Библии бедных национальной библиотеки № 5, гравюру в соч. Vita Christi национальной библиотеки № 26 (первосвященник в епископской митре) и миниатюру в драме страстей XVI в. национальной библиотеки № 12536, л. 42[819]. Западные художники нового времени Андреа Мантенья, Лука Синьорелли, Альбрехт Дюрер превратили скромную ветхозаветную сцену в блестящую церемонию в духе своего времени. Такова же картина в Библии Пискатора: роскошные палаты в стиле Возрождения; два лица держат Младенца над блюдом; двое стоят со светильниками; старец совершает обрезание. Толпа народа, в которой находятся также женщины и дети, с любопытством смотрит на происходящее[820]. 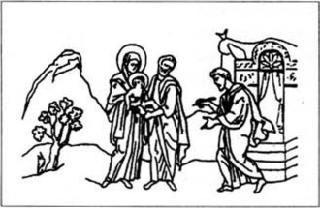 50 Миниатюра ватиканского минология В день 40-й по рождении Спаситель принесен был в храм иерусалимский, по еврейскому закону (Исх. XIII, 2). В рассказе ев. Луки об этом событии (Лк. II, 22–38), обозначены те основные черты, которыми определялась иконографическая постановка сретения Господня. Оно происходило в храме иерусалимском; Младенец принесен был Иосифом и Марией; жертва их состояла из двух горлиц или двух птенцов голубиных. По внушению Духа Божия праведный Симеон пришел в храм, взял Младенца на руки и сказал: «Ныне отпущаеши раба Твоего Владыко…» Бывшая при этом Анна-пророчица славила Господа. Таковы данные для изображения события сретения. С какого же времени и как пользовались этим материалом христианские художники[821]? Первый по древности, блестящий по художественному замыслу и исполнению пример изображения сретения находится в мозаиках триумфальной арки Марии Великой в Риме. (рис. 52)[822].
вернуться Albani. Mcnol. graec Agincourt. Maler. XXXI, 23; R. de Fleury. La S. Vierge, pi. XXIX. вернуться Бордье (Descr, p. 181) указал сцену обрезания неизвестного младенца в парижской псалтыри XII в. № 41, л. 40. вернуться К. Lind. Ein Antiphonarium mit Bilderschmuck, XI–XII Jahrh. im Stifte St. Peter zu Salzburg. Taf. XXIX. Wien, 1870. вернуться Несколько указаний у А Шулыда: Legende, S. 60. вернуться екоторые из почтенных русских ученых относят начало праздника к IV и даже к III вив доказательство того приводят «целый облаю» свидетелей (Еп. Сергий. Агиология, 11,41; Прот. Дебольский. Дни богослужения, ч. I, стр. 52., изд. 7-е, 1882); но из числа этих свидетелей нужно исключить самых древних — Мефодия Патарского и Кирилла Иерусалимского, которым неверно приписываются относящиеся к этому предмету беседы (Мсфодия о Симеоне и Анне; Кирилла Иер. — на сретение. О них см. «Уч. об отцах церкви» архиеп. Филарета (1,151; И, 75). В слове И. Златоуста на сретение, на которое делается ссылка, нет речи о празднике, а говорится лить об евангельском событии; что же касается его заглавия «eiζ τήν ύπατταυτήν Κυρίου ήμοΛ»», в котором заключается намек на празднование, то оно признается неподлинным, и, во всяком случае, ссылаться на это заглавие как на историческое свидетельство нельзя. То же нужно сказать и о проповеди Блаж Августина «De Symeonc», по поводу которой один из старых археологов справедливо заметил, что иное дело — прославлять деяния Христа и иное — праздновать Сретение (Hospiniani Festa christ., p. 40: aliud prorsus est Christi Domini facta laudibus praedicare, aliud num causa festos dies indicere et celebrare). Ссылка на Григория Назианзина основывается на простом недоразумении: западные ученые имеют при этом в виду слово на св. светы είζ τά άγια φώτα и видят в этом названии связь со сретением, которое в западной церкви носит название праздника светов (festum candelarum sive luminum) (Augusti. Denkwurdigkeiten aus d. christl. Archaol., III, 86; Hospinian. Fcsta Christ., p. 40); но в действительности это слово относится, как видно из его содержания, не к сретению, а к Богоявлению (ήμε ρα των φώτων). В православной церкви сретению никогда не присваивалось такого названия… Наконец, ссылка на песнопения натр. Анатолия (V в.) также не имеет решающего значения: приписываемые у нас этому патриарху песнопения иногда называются восточными (ανατολικό); а некоторые специалисты приписывают их другому Анатолию, жившему в VIII–IX вв. (Christ et Paranicas. Anthologia graeca). Георгий Амартол в своей хронике говорит, что в царствование Юстиниана I (ок. 518 г.) получил начало праздник Сретения (ή υπαπαντή έλαβεν αρχήν έορτάζεσΟαι). Allatii De hebdom. graec., 1403- Augusti III, 84; у Дюканжа (Gloss, gr. Ύπαντή) место это отнесено ко времени Юстиниана и читается иначе… έορτάζεσται Φεβρουάριον δεύτερα, γινόμενη πρώτερον ιδ'τοϋ αύτοϋ μηνôζ). То же подтверждает и Кедрин (Ccdren. Compend. hist, 366: έπι αύτοΰ (Justini) έτυπώΟη έορτάζειν ήμάζ καί τήν έορτήν τηζ ϋπαπαντηζ τηζ μέχρι τότε μή εορτάζομενηζ Ed. Niebuhrii, t, 1, p. 641), а Никифор Каллист свидетельствует, что во времена Юстиниана он получил всеобщую известность (Niccph. Hist, eccles. 1, XVII, с. 28: τάττει δε και τήν του Σωτήροζ ύπαπαντήν άρτι πτωτοζ απανταχού τηζ νηζ έορτάζεσΟαι). Первые два писателя имеют в виду церковь константинопольскую; в церкви же иерусалимской он, несомненно, был известен в IV в, как это видно из описания путешествия Сильвии, жившей в Иерусалиме три года и посетившей все св. места. Этот день, который путешественница называет четыредесягницей епифании, праздновался в Иерусалиме торжественно, как Пасха: совершался крестный ход в храм Воскресения, где епископ и пресвитеры проповедовали о принесении Господа в храм Иосифом и Марией и проч. и где совершалась литургия (Silv. Aquit. peregr. Ed. Gamiirrini, p. 84: Sane quadragesimae de epiphania valde cum summo honore hic celebrantur. Nam eadem dic processio est in Anastase, et omnes procedunt, et ordine aguntur omnia cum summa laetitia, ac si per pascha. Praedicant etiam omnes presbiteri et sic episcopus semper de eo loco tractantes Evangelii, ubi quadragesima die tulerunt Dominum in templo Ioseph et Maria et viderunt eum Symeon vel Anna prophetissa, filia Samuhel, et de verbis eorum, quae dixerunt viso Domino, vel de oblatione ipsa, quam obtulerunt parente. Et postrnodum celebratis omnibus per ordinem, quae consuetudine sunt, aguntur sacramenta, et sic fit missa). Это древнейшее свидетельство о празднике Сретения. Из Иерусалима праздник этот перешел к другим церквам в V–VI вв. Что его не было в Риме в IV в, об этом: Usener. Religionsgesch. Untersuch., 1,3.303. вернуться Ciampini. Vet. mon, 1, tav. XLIX; R. de Fleury. L’Evang, 1, pi. XIV; Garrucci, tav. CCXII. 2; Lehner. Marienverehrung, Taf. III, № 22. |