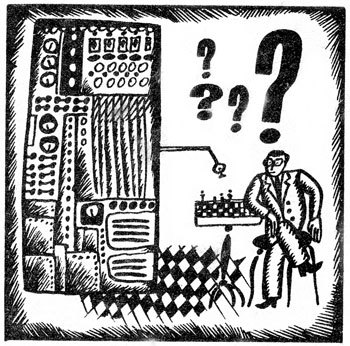1. e7—e8С (оказывается, пешку надо превратить не в «всемогущего» ферзя, а в «слабого» слона!) И теперь, если 1… Крe6:d6, то 2. c7—c8Л (сейчас пешку необходимо превратить только в ладью! А почему не в ферзя, вы скажете сами) 2… Крd6—e6 3. Лc8—c6Х. Если же чёрные играют 1… Крe6:f6, то получается симметричный вариант тоже с матом на третьем ходу.
Чтобы «добыть» решение, машина должна была перепробовать все различные ходы белых и ответы чёрных. А это даже при таком малом количестве фигур и скромной глубине расчёта — до третьего хода — составило около ста тысяч разных вариантов!
Как видите, решение шахматных задач машина выполняет, можно сказать, на «хорошо», а вот в игре ей такую оценку пока поставить нельзя. Но для учёных главное — именно игра с противником. Ведь они хотят создать машину, у которой будет вырабатываться интуиция, а для решения задач машине интуиция не требуется. Она будет ей необходима только для победы в игре с сильным противником, в игре, где число возникающих вариантов практически бесконечно, где к цели надо стремиться, не зная заранее, выполнима она или нет, и где нельзя предугадать все препятствия.
ПОЧЕМУ ОНА «НЕУСПЕВАЮЩАЯ»
Чтобы понять это, проследим, как машина избирает ход. Она просто пробует одно за другим движения всех своих и противника фигур, то есть действует по методу так называемого «дерева перебора». Что это значит? А вот что.
Допустим, машина играет белыми. В создавшемся положении для неё возможны 30 разных ходов. Сначала она намечает какой-то один ход — это «ствол». К нему примеривает все имеющиеся ходы чёрных. Пусть их тоже 30. Значит, у одного «ствола» выросло уже 30 «веток». К каждой из этих «веток» следует опять примерить 30 «веточек» — следующих ходов белых. Затем у каждой из этих 30 «веточек» появляются по 30 отростков — ходов чёрных… И так далее, что можно продолжать безгранично. «Дерево перебора» при этом очень быстро разрастается до неимоверных размеров, и перебрать все его «веточки», что необходимо для выбора лучшего хода, становится невозможно. Но рассмотрен только один «ствол», а ведь их было 30 — надо ещё испытать и другие 29… Вот почему приходится обрывать такой расчёт: выполнить его дальше, чем на 4 хода вперёд, даже машина при всей своей «скорострельности» не в состоянии.
В итоге такого четырёхходового расчёта через «мозг» машины проходят сотни тысяч различных шахматных позиций. Каждую из них она должна расценить по особому «прейскуранту», заложенному в неё программистом. Некоторые из позиций она сочтёт наиболее для себя благоприятными и тогда выберет и сделает ход, ведущий к ним. Казалось бы, неплохой метод?
Обратимся к человеку. Попробуй сильный шахматист так же перебирать все ходы и варианты, ему не хватит жизни и для одной партии. А ведь если машина ведёт расчёт на четыре хода вперёд, то шахматист рассчитывает нужный ему вариант и на десять ходов! Но обратите внимание: нужный ему вариант. Он не «выращивает» это гигантское «дерево перебора», чтобы потом с его помощью выбрать ход. Нет! Он сперва намечает ход, а затем принимается за расчёты — всего два-три варианта, только для проверки. Он не проделывает эту чудовищно неэкономичную работу машины, всякий раз просчитывающей сотни тысяч бессмысленных или заведомо слабых вариантов, которые потом, как дым, бесполезно «уходят в воздух».
Как же шахматист ещё до того, как начать расчёт, угадывает заслуживающий внимания ход?
Новичок, как и машина, пробует, перебирает ходы, пока не остановится на таком, который ему почему-либо приглянётся. Но такое перебирание доступно ему, пока расчёт его только одноходовый: «Если противник пойдёт сюда, я отвечу так». И точка. Что будет дальше, этим он не интересуется, и этого он не видит.
Человек же, овладевший игрой, рассчитывает глубже, зато он всё больше и больше ходов отбрасывает заранее, как неприемлемые. А тот, кто приобрёл уже большой опыт в игре, обзаводится словно каким-то компасом и тогда без предварительных расчётов почти безошибочно прокладывает курс в океане шахматных вариантов. Компас этот и есть та особая способность человека, которая приобретается с опытом, способность, которая называется интуицией.
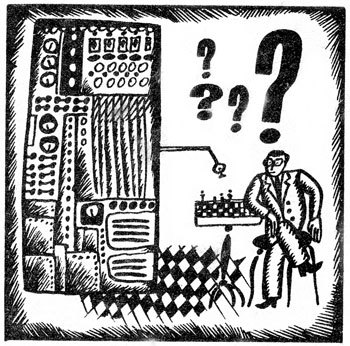
Итак, машина и человек играют каждый по-своему: машина методом перебора всех вариантов, человек — интуитивно. Способ человека — несравненно экономнее, но, может быть, способ машины надёжнее? Ведь рассматриваются, казалось бы, все продолжения и выбирается лучшее… Не так ли? Ничего подобного! Во-первых, продолжение, которое в итоге «тяжких раздумий» избирает машина, оказывается рассчитанным ею всего на три—четыре хода вперёд, а продолжение, интуитивно избранное человеком, проверяется им значительно глубже. Во-вторых: и машине и человеку при выборе хода приходится получающиеся позиции оценивать. Но если сравнить по точности, то интуитивная оценка человека — взвешивание на весах аптекарских, а оценка машины — на весах багажных.
Вот и получается: пока машина встречается с новичком, тоже играющим посредством только перебора ходов, она, благодаря своим спортивным качествам, обыгрывает его. Но против шахматиста, овладевшего шахматной интуицией, машина устоять не может.
Так что? Может быть, каждому своё? Человеку — лавры чемпиона, машине — вечная участь новичка?
НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ВЫВОДОМ…
Машина лишь послушная ученица, а кто её обучал так играть? Человек! Пусть же он и переучивает.
Вот за такое переучивание и взялся шахматный гроссмейстер и доктор технических наук Михаил Ботвинник. Раньше старались создать идеальную машину, а он задумал сделать её «по образу и подобию своему, то есть думающую так же несовершенно, как шахматист, ошибающуюся так же, как простые смертные гроссмейстеры». Это сильно облегчит задачу. Он уже составил подобную «учебную программу», причём, работал над ней, вообразив машиной… себя! Вообразив, будто не знает о шахматах ничего, кроме правил игры и ценности фигур.
— Моя машина сумеет до расчёта отбрасывать бессмысленные ходы и заиграет в силу гроссмейстера в ближайшие десять лет, — объявил Ботвинник.
Сдаст ли его ученица экзамены «на зрелость»? Получит ли диплом? От этого зависит многое для человечества. Ведь если она станет побеждать гроссмейстеров, то значит, у неё вырабатывается интуиция. А появление машины с вырабатывающейся интуицией будет означать, что в скором времени во всех областях жизни человек обретёт могучую помощницу, о которой пока что он мог только мечтать.
ИЗ ЗАПИСОК ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОГО АРХИВАРИУСА
Разумный выбор
Автор третьего закона термодинамики Вальтер Нернст в часы досуга разводил карпов. Однажды кто-то глубокомысленно заметил:
— Странный выбор. Кур разводить и то интереснее.
Нернст спокойно ответил:
— Я развожу животных, которые находятся в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Разводить теплокровных — значит, нагревать на свои деньги мировое пространство.
Кто ответит?
— Никак не могу найти себе помощника, — пожаловался однажды Эдисон Эйнштейну. — Каждый день приходят молодые люди, но ни один из них не подходит.
— А как вы определяете их пригодность? — поинтересовался Эйнштейн.
Эдисон показал ему вопросный лист.
— Кто из них ответит на эти вопросы, — станет моим помощником.
— «Сколько миль от Нью-Йорка до Чикаго?» — прочёл Эйнштейн и ответил: — Нужно заглянуть в железнодорожный справочник. «Из чего делают нержавеющую сталь?» Об этом можно узнать из руководства по металловедению.
Просмотрев остальные вопросы, Эйнштейн сказал:
— Не ожидая отказа, свою кандидатуру снимаю сам.