Радости моего детства
Сборник рассказов
Составитель Анна Борисовна Волкова
© Сибирская Благозвонница, оформление, 2021
* * *
«Самая чудесная способность души нашей»
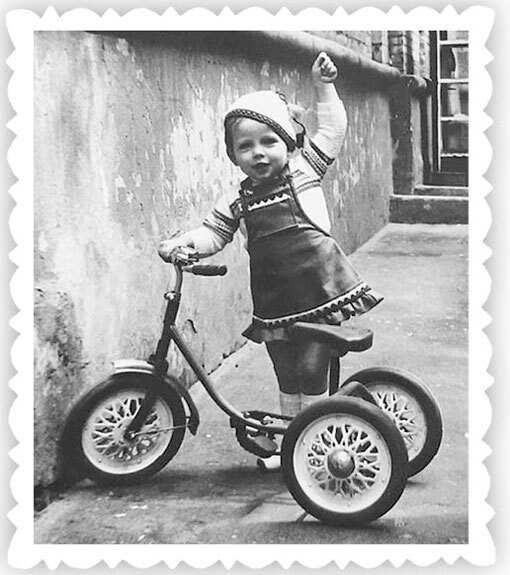
Эта книга, составленная из рассказов, присланных на конкурс «Радости и горести моего детства» издательства «Сибирская Благозвонница», вместила в себя очень много разных впечатлений. И это не только чувства безусловной любви, вера и ожидание чуда. Это не только «летние родители» – бабушки и дедушки, беспричинная радость, «шиколадные» конфеты, сарафан в жёлтые ромашки, чай со вкусом лета и облаков, коровы и ёжики в друзьях, тёплые письма и праздники, но и первые опыты – если не мучительные, то всё равно неожиданно трудные: первые горестные потери, первая беззащитность перед болезнью, первые ошибки, первый страх и стыд, первая утрата иллюзий… И тот самый момент, когда понимаешь: детство кончилось. Мы вырастаем, становясь серьёзнее и сдержаннее, учимся быть эффективными, принимаем важные решения за себя и за других, выбираем бренды, следуем трендам, ведем нескончаемую борьбу за сомнительные блага и очень, очень устаём… И в этой маетной круговерти именно воспоминания – «самая чудесная способность души нашей», как писал Пушкин, – становятся спасением. Мы прячемся в них, как в убежище, это наш домик из подушек и одеял, наш хилый шалашик, что кажется крепостью. Там, в детстве, цвета – ярче, запахи – острее, радость – сильнее. «Всё выпукло!» И все ещё живы… С годами мы утрачиваем многое, что любили и умели тогда; память – такая цепкая и всё-таки такая ненадежная – упускает мелкие детали и черточки, и эти бесценные песчинки уносит течение времени. Но создаются и остаются тексты – как способ удержать, слова – как единицы хранения памяти. Перед вами – около сорока таких текстов. Сорок рассказов о детстве разных авторов из самых разных мест России, Украины и Белоруссии: из Калуги и Ногинска, Бердичева и Старой Руссы, Острогожска и Бобруйска, Чебаркуля и Клявлино, Волгодонска и Твери… Давайте вглядимся в себя тогдашних – отсюда, с «берега повзрослевших людей».
Татьяна Шипошина
Солнечная мозаика
или От нуля до семи, с небольшими отступлениями
О сарафанчиках
1
У меня был сарафанчик в жёлтые ромашки. Бабушка перешила его из старого халата моей тёти. Мне многое перешивала бабушка из одеяний моих тётушек, маминых сестёр. Тётушек имелось целых четыре, и ни у одной из них не было дочки. Только сыновья. Но я сейчас не об этом. А о том, что мой сарафанчик с жёлтыми ромашками постепенно исчезает из жизни. Потому, что из жизни исчезаю я сама. Я становлюсь старше, старше, старше, и…
Каждый знает, что там, за этим «и».
Я не совершила никаких государственных переворотов, никаких таких особенных дел, у меня нет никаких системных открытий, чтобы остаться в памяти поколений. Но даже если бы я и совершила что-либо, то мой сарафанчик с жёлтыми ромашками всё равно покинул бы этот мир вместе со мной. Кому какое дело до какого-то жёлтого сарафанчика? А у него была пышная юбочка. «Присборенная», как сказала бабушка. Я сразу стала кружиться, как в балете. Балет! Я видела его в кино (телевизоров в домах простых людей тогда не водилось).
Балет – это так здорово, так прекрасно! «Лебединое озеро»!
Как и сейчас, я была натурой увлекающейся и большой фантазёркой. Способной увлечь кого-то ещё.
И вот уже весь наш двор начинал танцевать «балет»! Мы, то есть дети двора от пяти до восьми лет, «красиво» тянули руки вверх, делали «ласточку» и прочие «балетные» движения.
А также пели «балетную музыку» (об этой музыке хотелось бы рассказать особо, но в данном рассказе – она только составная часть повествования).
Эти танцы казались нам самым прекрасным балетом. И никто не мешал нам фантазировать…
Дня три танцевал весь наш двор, даже мальчишки!
Вот что сотворил сарафанчик в жёлтые ромашки с пышной присборенной юбочкой.
И что?
К чему я рассказываю это?
К тому, что о нашем «балете», вероятно, помню сейчас только я одна. Почти все «тогдашние» дети или погибли, или умерли.
Когда умру я, со мной умрёт этот «балет».
2
К чему я это рассказываю?
К тому, что мой сарафанчик и мой «балет», а также «ботиночки», «машинки», «войнушки», «бирюльки», книжки, тетрадки, берестяные грамоты, папирусы, глиняные таблички, друзья детства и самые, казалось бы, незначительные, уходящие в небытие мелочи огромного количества людей, когда-либо проживавших на нашей планете, доказывают одну очень важную вещь.
Так же, как и все уходящие в небытие мелочи юного, взрослого и стареющего человеческого существования всех когда-либо живущих на Земле людей, они доказывают существование Бога.
Почему? (Вероятно, это спросит атеист или некто, сомневающийся во всём.)
Потому, что не может быть ухода в небытие такого огромного, не поддающегося воображению количества важных вещей.
Бог, как творящий любовью, не может не содержать в Себе и мелочей. Как и более крупных вещей, и важнейших вещей. Просто – всему своё место.
Но я очень рада, что о моём сарафанчике помнят как минимум двое – Бог и я сама. И даже если Бог решит закрыть от меня это воспоминание, Он Сам будет о нём помнить. Ровно столько, сколько надо.
Возможно – бесконечно.
Вы спросите: возможна ли бесконечная память?
Думаю, да. Поскольку Он – бесконечен.
И тогда песнопения панихиды «Вечная память…», в которые сложно поверить, на лету обретают смысл…
«Войнушка»
1
Я родилась через восемь лет после окончания войны. Память войны в народе оставалась ещё очень свежей. Ещё многие пережившие войну оставались живыми.
Так же, как и жёны тех, кто не вернулся.
Мы, дети, ещё слышали рассказы «из первых уст».
Ну и часто сами играли в «войнушку». Причём это были игры-спектакли, игры «в лицах».
В них находилось место не только мальчишкам, но и девчонкам, на традиционно «женских» ролях. Девчонки играли роли боевых санитарок, а также жён мужественных солдат.
В обязанности жены входило ожидание бойца с фронта, встреча бойца, приехавшего в отпуск, подготовка праздничного обеда и пр. Случались и поездки к бойцу в госпиталь, если он был ранен, а также получение похоронок и горькое, со слезами и воплями, оплакивание погибшего.
В тот раз мне досталась роль жены.
Мальчишки бегают, стреляют, а я и другие «жёны» готовим обеды в игрушечной посуде. В «посудке». Мало кто может похвастаться настоящей игрушечной «посудкой»! У меня, например, её нет. Поэтому в дело идут черепки, разбитое блюдце, поломанная мыльница и ещё кое-что, по необходимости. В тарелки крошатся листики и цветочные лепестки. Подсыпается песок, кладутся камешки.
И тут приходит «гонец» с фронта и объявляет, что мой «муж», Колька, пал смертью героя. Закрыл своей грудью вражескую амбразуру.
Я не очень хорошо понимаю, что такое «амбразура», но сразу начинаю «горевать» по полной программе.
Я во весь голос воплю:
– Ох, милый мой! На кого же ты покинул меня и трёх наших детей! Дочь Эльвиру, дочь Альбину и дочь Серебрину! Как же я буду без тебя жить!
Я падаю на землю и стучу по ней кулаками, продолжая вопить. Другие «жёны» поднимают меня с земли, успокаивают. Дают мне попить водички.