Ибо ни проливной дождь, ни метель не имели для него значения, не давали им права оставаться дома. Они должны были плотно закутаться в платки, на головы и плечи надеть мешки из-под картофеля и выходить в дождь, в снег, с трудом вытаскивая сабо из липкой грязи тропинок, дрожать от страха перед сильными ударами ветра и ревом океана и мокнуть, все время мокнуть, трястись от холода по пути в Геранд и в монастырских стенах, где их намокшие юбки, жесткие от соли, сохли, согреваемые теплом собственных тел, а потом возвращаться домой, спускаясь бегом вниз, если только мороз не превращал весь холм в труднопреодолимую ледяную гору. Они скользили, падали, съезжали по склону на серых мешках, только бы поскорее пробежать пустыри у соляных озер, только бы поскорее почувствовать под ногами каменистую тропинку и наконец-то оказаться дома, где тетка Катрин разрешала сбросить мокрые сабо и платья, согреть тело под сухим платком и даже растереть посиневшие руки у слишком рано зажженной керосиновой лампы. Ианн не терпел такого расточительства, а поскольку он больше жалел керосин, чем несчастных жертв клерикального воспитания, Катрин вынуждена была в конце концов посвятить в эти запрещенные дела старую Марию-Анну ле Бон. Она оправдывалась перед матерью, что, хотя они обе в детстве также страдали, когда бегали в монастырскую школу в Геранд, послевоенное поколение стало слабее, а ветра, дующие с океана, сильнее, причем как во время отливов, так и приливов. Бабка прищуривала глаза, пытаясь вспомнить, действительно ли довоенные штормы были менее мучительными, а ливни не такими сильными, но в конце концов только презрительно махала рукой:
— Не сахарные, но если хочешь… Смотри только, чтобы об этом баловстве не узнал отец, и не впускай никогда на нашу половину Анну-Марию… раздетой.
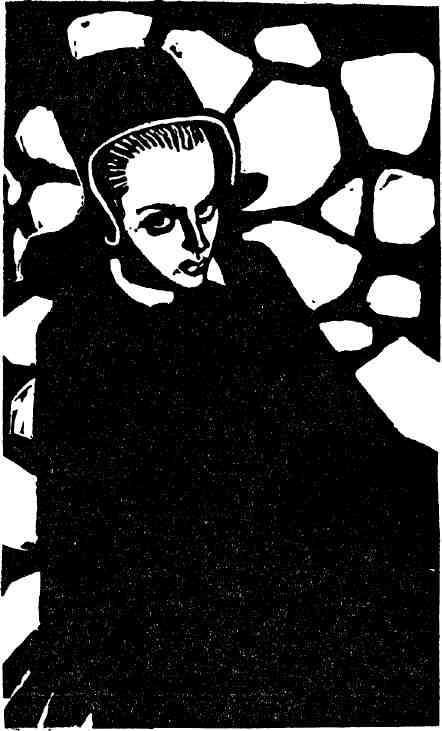
Это слово бабка выговаривала с трудом, ибо сама не переносила ни малейшего беспорядка в одежде и прическе, а кроме того, она знала, как бы на эти переодевания после школы реагировал Ианн ле Бон. И Анна, гораздо раньше кузин, сбрасывала с плеч теткину шаль, натягивала на себя мокрую юбку и кофту, сушила полотенцем непослушные кудри и уже одетая шла в комнату с другой стороны сеней, которую занимали дед с бабкой. Там ей разрешалось сесть поближе к лампе, что-нибудь переписать окоченевшими пальцами или расставить цифры в неровные столбики. Она готовила уроки, с нетерпением ожидая момента, когда на столе появится миска горячей похлебки и когда тело согреется хотя бы изнутри, если нельзя при деде быть «раздетой». Впрочем, даже если бы Ианн ле Бон изменил своим принципам, Анна-Мария все равно не смогла бы поменять мокрое платье на сухое по той простой причине, что одевалась она по-местному, по-бретонски, а у деревенских маленьких девочек тогда не было по нескольку юбок и платков. И Анна-Мария соглашалась на все эти лишения, на это умерщвление плоти так же безропотно, как переносила разлуку с больной матерью. Раз только она слышала, как бабка убеждала Ианна относиться к малышке добрее, ибо она не знает материнской и отцовской ласки. Анна-Мария с бьющимся сердцем ждала ответа, который мог изменить ее жизнь, но услышала только громкий смех. Ианн ле Бон хлопал себя по ляжкам, по мокрым брюкам, и хохотал так, что даже охрип. И повторял одно и то же:
— Ласки Франсуа? Ох, брось ты об этом говорить, брось, брось! А то, клянусь святой Анной Орейской, я лопну от смеха.
Бабка стала говорить тише, что-то просила, но, похоже, мало чего добилась, потому что, стоя у раскаленной кухонной плиты, передвигала по ней огромные горшки со страшным грохотом. И, как бы назло мужу, позвала Анну-Марию на помощь, хотя никакой помощи бабке ле Бон не было нужно, особенно если она гневалась. Стоя возле нее, Анна-Мария была все же поближе к огню и смогла погреть руки у теплого толстобрюхого горшка. А позже, после ужина и мытья посуды, она уже могла безнаказанно сбросить сабо и влезть внутрь шкафа, который служил им с бабкой кроватью. Там она снимала с себя все, кроме рубашки, и залезала под грубые простыни, в солому, в старые попоны, которые остались на ферме как единственная память о Франсуа — прекрасном вознице и исправном батраке. Немного погодя Мария-Анна, погасив лампу, ложилась рядом с ней, и это было единственное мгновение, когда они прижимались друг к другу — может, потому, что так было теплее, а возможно, для того, чтобы отогнать все печали и наконец-то почувствовать себя в старом ложе хорошо и в полной безопасности.
Все эти годы Анна-Мария боялась Ианна и боялась бабки, но бабка ей нравилась больше, чем вечно кислая, хотя и добрая Катрин. Бабка была как скала над океаном — из гранита. Она внушала уважение и одновременно восхищение, можно было часами смотреть, как всегда опрятная и подтянутая Мария-Анна хлопочет по дому.
Только внутри огромного шкафа-ложа и еще когда бабка вставала, Анна-Мария видела ее с непокрытой головой, с волосами, собранными кверху и закрепленными гребнем (стены Геранда, вероятно, играли ту же роль, удерживая город на вершине холма?), потом она весь день ходила в своем белом жестком чепце, красивом, но не так богато вышитом и не таком высоком, как чепцы, надеваемые по торжественным случаям. Только раз, во время штормового ветра, когда потоки дождя вынудили Ианна спрятаться под крышу, бабка торопливо развязала ленточки под подбородком и, сняв свеженакрахмаленный чепец, выбежала во двор. Гудел океан, порывистый ветер бился в окна. Все сидели как завороженные, глядя на дверь, через которую она так неожиданно выбежала. Никто не сказал ни слова, только дед что-то ворчал под нос. Возможно, он один догадался, что случилось? Знал, что не успел доделать или о чем-то забыл? После долгого отсутствия Мария-Анна вернулась промокшая до нитки. И снова никто ничего не сказал и ничего не спросил. А бабка, вытерев только лицо и подобрав волосы гребнем, как ни в чем не бывало стала растапливать печь, хотя все знали, что в такую погоду не может быть тяги в трубе и на ужин придется ограничиться оставшимся от обеда супом.
В тот вечер, уже в кровати, Анна-Мария помогала бабке сушить волосы льняным полотенцем. И тогда несмело спросила, нельзя ли хоть иногда дать волосам отдохнуть? Пожилая женщина посмотрела на нее искоса, словно не была уверена, не стала ли она предметом неудачной шутки, а потом резко ответила:
— Они отдыхали, когда я была ребенком. И хватит. Каждая бретонка, которая хочет, чтобы ее уважали, накрывает волосы чепцом.
— Но иногда, — настаивала Анна-Мария, — разве нельзя хотя бы дома, только дома, ходить с непокрытой головой?
— Ты что, с ума сошла? — проворчала в ответ бабка. — Без чепца я намного ниже деда и у меня будет такое ощущение, будто я лысая, как эти бесстыдницы — рыбачки. Неужели ты этого не понимаешь? Лысая!
Прошла первая, самая трудная зима, потом снова зацвели примулы и надо было убегать от жаждущих весны мальчишек. Но только в жаркое лето увидела Анна-Мария всю красоту этого кусочка земли. Золотились высокие дроки, цвели фруктовые деревья. Но даже работа на ферме, ибо время каникул было временем нескончаемых дел и постоянных понуканий Ианна, не могла полностью лишить ее радости и упоения оттого, что она погружалась в голубизну неба и зелень трав и что нигде нет более красивых каштанов и золотистых лип, чем здесь, у океана, на армориканском побережье!
Потом вернулось осеннее ненастье, на ногах открылись раны, и каждое пробуждение было ожиданием пытки от сабо и страхом перед неизбежной дорогой. Святая Анна не хотела быть менее суровой к своим верным дочерям, чем Ианн…
Помощь пришла неожиданно, и от того, от кого она ее не ждала: от Софи. Как-то раз Анна-Мария стояла на крутой лестнице, ведущей на третий этаж, и ждала, когда ее лицо и руки перестанут быть синими и она не будет — как говорил Франсуа — «вносить холод и ветер» в комнаты. Девочка стояла, сняв сабо, с мокрым платком в руке — почти «раздетая». И вдруг почувствовала себя очень несчастной, больной и замерзшей. Анна-Мария прислонилась лбом к стене и громко зарыдала, впервые за два года хождений между Герандом и фермой. Неожиданно она услышала шаги, присела, но было уже поздно: Софи остановилась рядом и притянула ее к себе. Анна-Мария сжалась, ожидая удара, но костлявые пальцы разжались, и над своей головой она услышала шепот: