Буква «Я» здесь означает «ядерный», а СЧАСТЬЕ состояло в том, что можно было пониженную точность наведения скомпенсировать повышенной мощностью ядерного взрыва. Взрыва, напомним, в небе над защищаемым городом. Видно, что главное для них было – поразить цель, а там хоть трава не расти. Она бы и не росла, если бы все ЯЗ ПР взорвались над бедным городом.
Как противоракетчики убеждали начальство, показывает эпизод 1962 года на обсуждении проекта системы ПРО Москвы. Председателю Комиссии генералу П. Ф. Батицкому надоело слушать доводы и контрдоводы, и он обратился к главному конструктору системы Г. В. Кисунько.
– Ну, что, Григорий Васильевич, ты нас не обманываешь,- все будет так, как ты говоришь?
– Конечно, Павел Федорович, клянусь вам!
– Ну, ладно, я тебе верю… А вы все (тут он повернулся к залу) помолчите! – И с этими словами он обнял и поцеловал Кисунько.
Главный конструктор клятву не сдержал. Система ПРО, с большими изменениями и с другим главным конструктором, войдет в строй на десять лет позже. Сколько за это время было истрачено народных миллиардов – другая история.
Судя по тому, что американские руководители предложили СССР мораторий ПРО, Сахаров мог догадаться, что его американским коллегам удалось перевесить американских противоракетчиков и довести свое мнение независимых экспертов до самого верха.
В СССР тоже были независимые эксперты. Но у советских лидеров не было привычки полагаться на независимую экспертизу. Сахаров в своем письме упоминает об «официальных документах, представленных в ЦК КПСС товарищами Харитоном Ю.Б., Забабахиным Е.Й.» (научными руководителями обоих ядерных «Объектов»). Реакции на эти обращения, видимо, не было, раз Сахаров – заместитель Харитона – добавил свой голос.
История противоракетных интриг в Кремле пока не изучена. Сыграло ли роль то, что в главной противоракетной фирме работали дети руководителей страны? Или советским вождям хотелось к своим номенклатурным привилегиям добавить еще и защиту от ядерной у(розы? Первым делом защитить Москву, читай Кремль. А Тамбов обойдется как-нибудь. Что с того, что американцы не обсуждают, какой из их городов прикрыть первым, и вообще считают это невозможным?! Значит, мы опять впереди планеты всей, только и всего.
Создать систему ПРО Москвы решили еще в 1960 году, для чего организовали конструкторское бюро «Вымпел». В марте 1967 года в Советской армии ввели новый род войск – войска противоракетной и противокосмической обороны. А к лету был готов проект с красивым революционным названием «Аврора» – как противоракетным зонтиком прикрыть всю европейскую часть СССР. Под воздействием критики (военных и физиков «стратегического назначения») проект отвергли, но в силе осталось принципиальное намерение. В мае 1968-го вышло постановление ЦК и Совмина об усилении работ по ПРО.
Все это Сахаров знал подолгу службы. И, следуя своему моральному долгу, он обращается к замыслу дискуссионной статьи о взрывоопасном клубке проблем, в котором противоракетная оборона стала бикфордовым шнуром. Статью он назвал «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Так проблема противоракетной обороны превратила Сахарова из секретного высокопоставленного физика в открытого общественного деятеля.
Красноречива хронология. Экземпляр сахаровских самиздатских «Размышлений» стараниями КГБ попал в Политбюро в конце мая 1968-го, и по указанию Брежнева члены Политбюро познакомились с текстом. А в июле 1968-го советское руководство сообщило США о согласии начать переговоры об ограничении ПРО. Переговоры завершились в 1972 году подписанием договора. Опасность, о которой говорил Сахаров, была приостановлена.
Советская сторона в этих переговорах добилась права на ограниченную противоракетную оборону вокруг Москвы. В сущности, это была не уступка США, а потакание глупой прихоти советских вождей. В стратегическом противостоянии двух супердержав ограниченная ПРО все равно что никакая. Это лишь способ зарывать деньги в землю и разорять страну. Чем и занималось военно-промышленное объединение «Вымпел», включавшее в себя и Радиотехнический институт.
Как на это смотрел директор института – академик А.Л. Минц?
Ответ на поставленный вопрос ждет вас во второй части статьи, публикуемой в следующем номере журнала.
Владимир Битюцких
Противоракетная оборона в прошлом и будущем
Выражение «противоракетная оборона» и его сокращение «ПРО» сейчас широко известны. В новостях мы их слышим то и дело, обычно с тревожным эмоциональным аккомпанементом. Кто-то хочет ограничить эту оборону, кто-то не хочет. На самом высоком политическом уровне звучат политические заявления, строгие предупреждения, успокаивающие разъяснения. То говорится, что ограничение противоракетной обороны – главная опора международной безопасности, то что это – пережиток эпохи холодной войны. Но никто не стремится прояснить научно-техническую суть проблемы, чтобы дать понять, почему политикам так трудно договориться.
У этого молчания есть уважительная причина: речь идет об очень сложной проблеме, быть может, самой сложной из технических проблем XX века и скорее всего неразрешимой, если не накладывать заранее существенных ограничений. Сложность только увеличивается оттого, что проблема высоконаучной техники оказалась сплавлена с малонаучными – политическими, военными, экономическими и психологическими факторами, в том числе с таким неопределенно гуманитарным понятием, как «доверие».
И все же первична научно-техническая сторона проблемы, которую по просьбе журнала объясняет на следующих страницах профессионал. Владимир Тимофеевич Битюцких более двадцати лет работал в главном теоретическом центре по проблеме противоракетной обороны страны. Задачей этого института было разработать систему ПРО, основываясь на новейших достижениях радиолокации, ракетного дела и математических методов управления. Начал свою карьеру он в 1970 году выпускником Московского авиационного института. Впоследствии без отрыва от противоракетного дела много лет преподавал на родной кафедре – учил студентов, как можно алгеброй поверять дисгармонию технических систем. И завершил свою противоракетную карьеру доктором технических наук в 1994 году. Он нашел другое применение своим силам, возглавив финансово-аналитическую дирекцию в компании сотовой телефонной связи «БиЛайн», компании, созданной профессионалами противоракетной обороны.
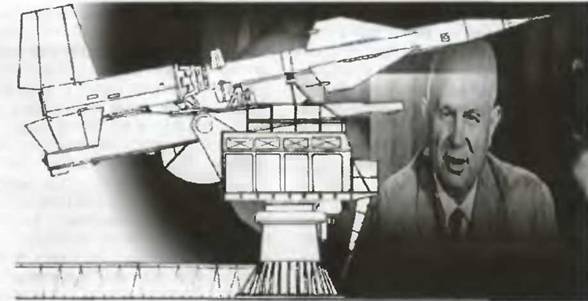
Смена предмета профессиональных размышлений дает нужную дистанцию, чтобы было «издалека виднее».
Автор не рассказал лишь о своем инструменте, который успешно служит и в противоракетном деле, и в финансовом анализе.
Это так называемое исследование операций: методы создания математических моделей сложных практических ситуаций неопределенными – игровыми – факторами.
Одна из таких ситуаций известна каждому – это игра в крестики- нолики. Девятиклеточный вариант для младшеклассников быстро истощает свой игровой потенциал, даже без применения методов исследования операций, когда выясняется, что если играют асы, ничья гарантирована. Но если у вас есть основание предполагать, что ваш противник – салага, можно и попробовать.
В студенческие годы знакомятся с более продвинутой версией – бесконечным клетчатым полем, на котором, чтобы победить, надо выстроить в ряд пять крестиков или ноликов. Эта версия крестиков- ноликов способна затмить и не очень скучную лекцию. И здесь без исследования операций настоящим асом не станешь. Представим себе теперь, что крестики-нолики можно ставить по всему земному глобусу, что каждый крестик стоит миллиард долларов, бюджеты противников ограничены вполне конкретными величинами, что время на ответный ход ограничено, что имеются некоторые сведения о том, как противник намеревается пойти, но эти сведения могут оказаться и дезинформацией. Добавим еще, что следствием выигрышной последовательности крестиков может быть один большой крест или, лучше сказать, ноль глобального масштаба, и мы получим нечто вроде ракетно-ядерного соревнования в годы холодной войны. Тут уж без исследований операций просто не выжить. Результаты этих исследований докладывались политическим лидерам и обсуждались ими с глазу на глаз. И эти результаты были не меньшим вкладом в дело мира, чем демонстрации и петиции непрофессиональных защитников мира.