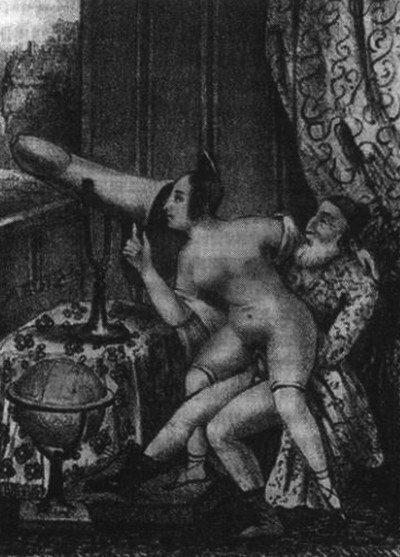Так, удерживая равновесие между Разумом и Природой, которые для него были синонимами, но не закрывая при этом глаза на жестокость и зло, свойственные человеческой натуре, Ламетри открывал в сексуальном наслаждении «социальное задание», существенно превышавшее дело продолжения рода.
Характерно, что и барон Гольбах во «Всеобщей морали», отбросив соображения религиозного или метафизического свойства, основывается на человеческой природе и потому признает в качестве главного двигателя общества «интерес», а в качестве финальной цели существования — счастье (что на общественном уровне может быть приравнено к «удовольствию» Ламетри). Политика, право и прочее становятся производными данного понятия. И не случайно Гольбаха, который всячески пытался создать себе «имидж» добродетельного атеиста, общество упрямо ассоциировало с безбожником и либертеном, а маркиз де Сад впоследствии называл его своим наставником и учителем.
Для нас, однако, важно одно: поборники свободы мысли и свободы чувственности (sens) боролись против одного врага — одни нападали на алтарь и тем самым сотрясали трон, другие атаковали все запреты и табу сексуального и нравственного содержания. Но тем самым подрывали общественное здание, которое «уже рушилось под ударами как разума, так и сумерек инстинкта»[271].
МЕЖДУ ЭРОСОМ И РЕЛИГИЕЙ
До сих пор мы говорили в большей степени о трактатах, бывших на протяжении XVIII века своеобразной философской подкладкой либертинажа — как литературного, так и бытового, который в свою очередь проецировался из индивидуально-чувственной сферы на общественную и политическую.
Но такого же рода философствование, которое к тому же имело сходные общественные последствия, было характерно, как уже говорилось выше, и для собственно художественной литературы. Причем даже для той, которая подобное философствование осмеивала и осуждала (яркий пример подобного рода — роман Пьера-Жана-Батиста Нугаре «Люсетта, или Прогресс либертинажа»[272]).
Философские идеи начинают широко проникать в литературу с приходом к власти госпожи де Помпадур, испытывавшей определенную симпатию к «республике словесности», в результате чего и сами представители этой «республики» стали чувствовать себя свободнее в выборе тем, да и в самих описаниях. К этому же времени относится и зарождение журналистики: появляются периодические листки, брошюры, пасквили с описанием скандальной хроники из жизни актрис, светской жизни — они читаются в будуарах, салонах и даже в монастырях, при том что весьма часто являют собой неприкрытую апологию сексуального удовольствия, которое есть еще и «интеллектуальное наслаждение», происходящее от счастливого удовлетворения инстинкта. Но и раньше в литературе уже наблюдалась новая практика: произведения, предназначенные для пропаганды и вульгаризации новых идей, нередко заимствовали обеденную форму, и то, что сейчас мы называем романом либертинажа (роман эротический, роман «corrupteur»), становилось более увлекательным способом распространения новых знаний (илл. 6). Собственно, именно поэтому в статусе романа либертинажа отказывается, в частности, знаменитому эротическому роману «Мемуары Сатюрнена, или Привратник картезианского монастыря» («Les Mémoires de Satumin ou le Portier des Chartreux»), авторство которого приписывается адвокату парижского парламента Жану Жервезу де Латушу, — ведь в нем полностью отсутствует философический контекст[273].
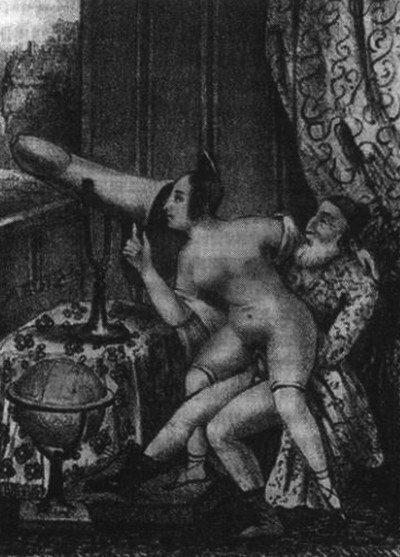
Илл. 6. «Очаровательный урок астрономии». Литография издания «Мемуаров Сюзон» анонимного автора 1830 года.
Обратим внимание на то, что также и критика религии и пропаганда атеизма получают широкое распространение в первую очередь в романах именно обсценного содержания. Так, Клод Проспер Жолио де Кребийон (Кребийон-сын), друг Гельвеция и Дидро, прибегнув к популярной в то время форме восточной волшебной сказки, которая традиционно позволяла многие вольности, пишет роман «Шумовка, или Танзай и Неадарне» (1734), политическую и антирелигиозную сатиру, направленную в том числе и против теологических разногласий. При этом характерно, что, не принимая ничьей стороны — ни янсенистов, ни иезуитов, — он осмеивает их всех, а вместе с ними и религию как таковую. (Надо ли удивляться, что после появления романа его автор оказывается заточенным в Венсенскую башню, откуда выходит лишь благодаря вмешательству принцессы Конти[274]?)
Дидро в философской сказке «Белая птица» (1748) уже и вовсе покушается на святая святых религиозных таинств. Белая птица, в которую, как потом узнает читатель, превратился принц Дженистан, выступает поначалу как олицетворение Святого Духа. Своим пением птица (она же — Святой Дух) приводит в состояние невиданного томления живущих в уединении китайских девственниц. И, пользуясь их состоянием «наивысшего волнения», «делает им» множество «маленьких душков» (petits esprits)[275].
Еще более любопытен случай аббата Жана Баррена, менее известного в России, но пользовавшегося достаточным успехом во Франции в XVIII веке. Автор «Жизнеописания святой Франциски Амбуазской», викарий города Нанта, в 1746 году он издает роман под названием «Венера в монастыре, или Монашенка в рубахе», в котором две монашенки, сестра Аньес и сестра Анжелина, просвещают друг друга и других сестер монастыря в отношении сексуальных практик, причем делают они это под руководством святых отцов и со ссылкой на их наставничество[276]. Текст, который мог бы быть прочитан как откровенно эротический, если не порнографический, апеллирует, однако, к понятиям, дискутируемым и в философской, и в теологической литературе. Так, различие между религией земной и религией небесной позволяет монашенкам «сознательно» и «безгреховно» освободиться от данного ими обета целомудрия[277]. Понятие верности своей конгрегации оправдывает связь с монахами того же ордена. Рациональные аргументы становятся тем самым «идеологической подкладкой» похотливых сцен, но сами сцены, описанные в диалоге двух простодушных монашенок, оказываются благодаря литературным свойствам текста, смеси в нем «вуайеризма» и «удовольствия от слова», лишенными собственно порнографической грубости. Основной же вывод романа можно было бы назвать философским — во всяком случае, в понимании XVIII века. То, что происходит в кельях, в монастырских садах и в других местах, которые только может вообразить себе автор, есть одновременно потребность сладострастия и хвала ему. И оно не постыдно, потому что в нем говорит голос самой Природы.
Следующий роман Баррена, «Наслаждения монастыря, или Просвещенная монахиня», опубликованный им почти пятнадцать лет спустя, в котором сестра Доротея увещевает сестру Жюли уступить домогательствам брата Кома, имел и вовсе нешуточную «педагогическую» функцию: освободиться от предрассудков в области сексуальной жизни, — но также и предостеречь мать, желающую, чтобы ее дочь приняла монастырский постриг, от скоропалительного решения. А за всем этим, как следует из авторского вступления к роману, стоит призыв к упразднению женских монастырей, ради чего, по уверению автора, этот роман и был написан[278].
Но, возможно, наиболее яркий пример тенденции того же рода — знаменитый роман, известный под названием «Тереза-философ», авторство которого, до сих пор дебатируемое в науке, приписывается тем не менее маркизу д’Аржансу, автору «Китайских писем», «Галантных монашенок», близкому другу прусского короля Фридриха II.