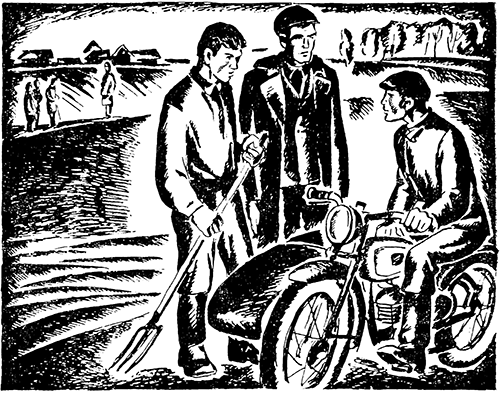Она, видно, устала ждать от него разговора, чуть вздрогнула, но сказала спокойно:
— Как все, так и мы.
Он еще больше нахмурился.
— Это как понимать?
— Обыкновенно.
— Сказала.
Надежда покосилась на него, сердито шевельнула перехлестнувшими переносицу бровями:
— Эх, Степан ты, Степан, Степка Николаевич. И чего ты все сторожишься? Видно, чужая я тебе? А вот у меня совсем другое отношение.
— Рук у меня нету, Надя.
— Ну и что? — быстро повернулась она к нему: — А это чего: — Грабли, что ли? — показала она свои замытые водою, иссаженные занозами от половиц руки, с коротко остриженными, покоробленными ранней работой ногтями. — Да ну тебя! — рассердилась она, вытряхнула из подола черемуху и поднялась: — Пошли уж, чего травить самим себя.
Он не поднялся и, глядя под ноги, на брошенные кисточки черемухи, глухо произнес:
— Прости.
— Да за что прощать-то? Глупый ты, глупый. — И взъерошила его по-детски мягкие, ласковые волосы. Он обхватил ее култышками, ткнулся лицом в живот, как маленький:
— Так как же нам быть-то?
Надежда прижала его к себе, наклонилась, поцеловала в голову, потом в щеку, потом в губы, которые с готовностью и жаром ответили на ее поцелуй.
— Степанушко!
— Надя! Стыдно-то как!..
— Когда любишь, ничего не стыдно, — шептала она, припадая к нему.
— Стыдно, сты-ыдно, — плакал он и скрежетал зубами.
Это был тот редкий случай, когда женщина ломала сопротивление мужчины и потом, пораженная тем, что она сделала, лежала отвернувшись и молча кусала траву, чтобы задавить те, задолго припасенные, обвинительные против мужчины слезы, на которые она уже не имела права.
Степан шевельнулся и снова произнес, как из-под земли:
— Прости!
Она резко поднялась, оправила юбку, сказала: «Не смотри» — и долго возилась у ручья. Вернулась прибранная, суровая, уронила руки.
— Вот и поженились. — Помедлила секунду, тронула черемуху, потрепала ее дружески: — Черемуха венчала нас, только она и свидетель. Так что если угодно, можно и по сторонам — черемуха не скажет…
— Да ты что, Надя? — чувствуя, что говорит в ней невыплаканная бабья обида, заторопился Степан. — Пойдем к маме, объявим, все честь честью…
— Чего же объявлять? — усмехнулась Надежда. — Я уже и манатки свои давно к вам перенесла, в тот день, когда беда стряслась, я и перебралась: чем кручиниться старухе одной, лучше уж вдвоем. Видишь, какая я расторопная да настырная. Окрутила мужика…
— А вот это ты зря говоришь, Надежда, — упрекнул ее Степан. — Зря, и все. — Заметив, что у нее дрогнули губы, он поднялся с земли, прикоснулся щекой к ее щеке, боясь поднимать култышки, и прошептал: — Да если ты хочешь знать, я могу влезть на гору и кричать на весь поселок и на всю землю, какая ты есть баба и человек, и что могу я воду выпить, в которой ты ноги помоешь, и всякую такую ерунду сделать…
— Ну, понес мужик! — рассмеялась Надежда. — Вроде бы и не пил, а речи, как у пьяного. Пошли уж давай до дому.
— А и правда пошли, чего высказываться, — опамятовавшись, проговорил Степан и крутнул головой: — Прорвет же…
— Вот так, брат, — задумчиво протянул Степан после того, как выговорился, и мы посидели молча. — Так вот две руки четырьмя сделались. Сын растет, Тошка. Во второй класс нынче пойдет. Все, брат, в русле, ничего не выплеснулось. Надя — матица, весь потолок держит. Человек!.. Без нее я так и остался бы разваренной картошкой. И завалился бы, глядишь, под стол. Смекай!..
Когда мы подходили к дому Степана, он вдруг кинул мне ружье, а сам кубарем покатился с косогора, повторяя:
— Вот баба! Вот баба! Никак ее не осаврасишь, все из шлеи идет!
Внизу Надежда везла из лога на самодельной тележке сено. Степан подбежал к ней, что-то горячо заговорил. Я спустился ниже, до меня долетели слова Надежды:
— Преет сено-то.
— Мне коня в собесе дадут. Чего ты в гужи запрягаешься? Я вот поеду и потребую.
— Так я и позволила тебе в собесе пороги околачивать, — возражала Надежда. — И не шуми. Я последний промежек дотаскиваю. А коня в собесе пусть инвалиды немощные возьмут, им он нужней.
— Во характер, якорь ее задави! — как будто сокрушенно и в то же время с затаенной нежностью пожаловался мне Степан и впрягся в тележку сам, решительно отстранив жену. Она воткнула вилы в воз и стала толкать тележку сзади.
Они медленно и упрямо поднимались по косогору, на склоне которого стоял их дом. На крыше его звонко вертел жестяным пропеллером деревянный самолет, сделанный Степаном на потеху и радость сынишке.
Иван Байгулов
ДЫХАНИЕ ЗЕМЛИ
ад Дубовкой сгущались звонкие весенние сумерки. Борков издавна любил этот час. За ним наступало для него то единственное время, когда можно было отдохнуть от забот прошедшего дня. Но сегодня он никак не мог отрешиться от мыслей о предстоящем собрании.
Сегодня ему надлежало держать речь перед колхозниками, а он не знал, как истолковать события единственного дня своей председательской жизни, потому что угодил в руководители колхоза самым неожиданным образом, и столь же неожиданным было все, что свершилось потом.
После большого водополья в Дубовку, как каждый год, невесть каким путем, прибыл уполномоченный из района. На собрании, созванном по этому случаю, он долго говорил о том, что нужно делать колхозникам, и, хоть не было в его указаниях былой неумолимой требовательности, а в голосе начальственного звона, однако настойчивость была прежняя. Он советовал вдвое сократить сроки сева и подтянуть все прочие показатели. И, верно, постановили бы по указу уполномоченного — уже пошел было председатель Иван Иванович Птица на трибуну, чтобы дать твердое слово одолеть все трудности, — когда вдруг попросил слово всегда сдержанный и молчаливый шофер Таймалов.
На собраниях, если случалось быть на нем уполномоченному, бывало такое не часто. Каждый, кто отваживался говорить, делал это после председательского доклада, чтобы не сбиваться с руководящей линии. Соблюдая это неписаное правило, Птица протестующе махнул рукой, но уполномоченный остановил его и попросил Таймалова на трибуну. Он, видимо, слышал о нем много хорошего и теперь, должно быть, надеялся, что шофер непременно выдвинет встречные обязательства. Однако Таймалов, едва водворился за шаткую трибуну, сразу повернул в другую сторону и сказал, что подтягивать показатели дальше некуда, потому что гайка у Птицы будто бы ослабла вконец и надо определить в председатели другого человека.
Уполномоченный переглянулся с Птицей, и, наверно, пришлось бы ему поправлять Таймалова, но тут из затихшего зала вдруг донесся чей-то раздумчивый голос:
— А ить верно Таймалов-то говорит. Сымать Иван Иваныча надо.
— Надо!
— Давно пора! — вразнобой и не сразу зашумели колхозники, а те, кто порешительней, норовили пробиться на трибуну.
Птица потупился.
И хоть уже не говорили колхозники столь беспощадно, как Таймалов, но каждый, кто ненадолго утверждался на трибуне, вел дело к тому, чтобы незамедлительно сменить председателя.
Уполномоченный сначала пытался утихомирить мужиков, потом только слушал, а когда убедился, что гайка у Птицы и вправду ослабла окончательно, быстрехонько созвонился с районным начальством, назначил перевыборы и попросил назвать кандидатуру нового председателя.
В клубе воцарилась тишина.
Мужики, должно быть не веря, что их требование сбылось так скоро, недоуменно переглядывались. Кое-кто с надеждой посматривал на баб, которые сбились в тесную кучку на двух передних скамейках, но, судя по тому, что был их шепоток очень несогласным, они ничем пока не могли помочь мужикам.
Уполномоченный нетерпеливо переминался за столом президиума, всем своим видом показывая, что мужики погорячились напрасно. А те боялись дать маху, и, как издавна, когда решалось важное дело, в зале кое-где зашаяли огоньки папирос. И, верно, еще не скоро назвали бы мужики того, кто мог, по их мнению, руководить колхозом, если б не обронил кто-то в шепотливом разговоре имя Боркова. В клубе опять заметно поутихло, а когда уполномоченный повторил свое «так кого же, товарищи?», зал отозвался одним коротким, как вздох, словом: